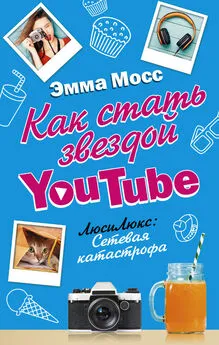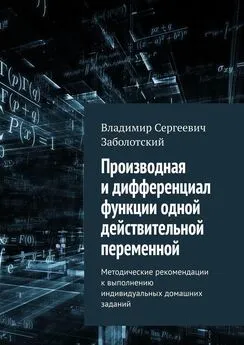Марсель Мосс - Социальные функции священного
- Название:Социальные функции священного
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Евразия
- Год:2000
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марсель Мосс - Социальные функции священного краткое содержание
Социальные функции священного - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Впрочем, и так понятно, что результаты нашего исследования будут лишь предварительными. Научные заключения всегда таковы, и ученый должен быть готов пересмотреть их. Если нам удастся открыть еще более элементарную форму молитвы или установить, что в определенных условиях молитва сразу родилась в сложной форме, придется рассмот-
о Зак. 3106
реть факты, приводимые в поддержку первого или второго утверждения. Пока достаточно и того, что анализ до сих пор не обнаружил более простых форм молитвы, тогда как, напротив, наиболее развитые формы молитвы явно оказываются плодом более или менее долгой исторической эволюции.
ЕСТЬ ЛИ МОЛИТВЫ В АВСТРАЛИИ?
I
На вопрос, поставленный таким образом, мы находим два противоречащих друг другу ответа. По мнению одних исследователей, молитва в Австралии не только существует, но и уже имеет форму просьбы, мольбы, призыва, обращенного к могущественному и независимому божеству, как в наиболее развитых религиях [773]. Согласно же другим, напротив, австралийцы не знают ничего, что могло бы быть названо именем молитвы [774]. Рассмотрим последовательно документы, на которых основываются то и другое утверждение.
Среди сведений, на которые опираются те, кто считают, что они обнаружили в Австралии молитвы в европейском смысле слова, одни настолько очевидно лишены какой бы то ни было ценности, что нам даже нет нужды останавливаться на них [775]. Другие источники, более достойные доверия, лишены каких бы то ни было доказательств [776];
сводятся к простому утверждению без единого текста молитвенной формулы в поддержку этого утверждения. Третьи, которые кажутся более точными и содержат элементы доказательств, на самом деле происходят от обычной путаницы, ошибок в номенклатуре явлений. Для племен, на этот раз уже локализованных, авторы употребляют такие слова, как заклинание, заклятие, мольба, хотя на деле они могли бы доказать только существование крайне простых речевых ритуалов. Когда Оксли [777]говорит, что племя Сиднея [778]молится, он не говорит ничего определенного; когда Хигни говорит о заклинаниях невидимых духов, совершаемых с целью навести порчу, и о мольбе с целью вызывания дождя, он допускает настоящие языковые ошибки; когда Пичи [779]говорит об искуплении и заклинании по поводу того, что он сам называет «корробори», то есть плясовые песни «для дождя», он злоупотребляет правом на интерпретацию. Использование всех этих терминов неоправданно.
Гораздо важнее документы о племени эйалайи (Euahlayi), опубликованные Лангло Паркер [780]. Она рассказывает о погребальной церемонии, в ходе которой произносится нечто вроде молитвы Байаме, великому богу-творцу всех племен равнин [781]. Дух мертвого этой молитвой направляют к богу и просят последнего пропустить покойного, верного его законам на земле, в небесную обитель бога, в Bullimah, «страну блаженства» [782] [783], спасти его от ада, Elearibah wundah111. Самый старый колдун, обратившись лицом на восток и опустив голову, как и все присутствующие [784], стоя произносит эту речь.
Каким бы звучным ни было утверждение Паркер, оно кажется нам одним из самых спорных. Прежде всего, сама природа употребленной
формулировки указывает на ее христианское происхождение, почти прямое заимствование из библейского, то есть протестантского словаря. «Услышь же наш голос, Байама» [785]. Более того, у нас есть все основания предполагать, что наблюдаемое племя находилось, по крайней мере, в восприимчивом состоянии, склонявшем его к подобным имитациям. Уже со времени юности миссис Паркер оно находилось на пути распада [786]; оно включало множество чужеродных элементов [787], которые, по меньшей мере, привели к некоей евангелизации обрядов. Поскольку же наша наблюдательница росла, жила среди аборигенов и лишь позднее решила записать и опубликовать свои наблюдения, которые она не датирует, мы склонны думать, что это описание является фиксацией достаточно нового обычая, появившегося уже после того, как начало осуществляться прямое или непрямое влияние белых. Нельзя не вспомнить о европейском обычае, требующем, чтобы родственники покойного стояли во время погребения кругом, опустив головы. Впрочем [788], этот изолированный факт покажется нам еще более неправдоподобным, когда мы обратим наше внимание на то, что молитва за мертвеца (а не обращенная к мертвецу) является, очевидно, одной из наиболее развитых, редких и недавних по времени появления форм речевых ритуалов. Она появляется, очевидно, только в христианстве, причем в христианстве, уже удаленном от собственных корней [789]. Поэтому трудно поверить, чтобы австралийцы без посторонней помощи одним прыжком преодолели все стадии, отделяющие их от этих сложных и возвышенных форм молитвы. Кроме того, ничто не доказывает, что эта практика наблюдалась постоянно, до или после наблюдений Паркер, и, как нам кажется, мы располагаем доказательством того, что во все время пребывания среди них наблюдательницы, эйалайи не обошлись без изменения погребальных обрядов. Действительно, говоря о похоронах почтенного мужчины по имени Ээрин, автор не упоминает о столь важном ритуале, прекрасно описанном в рассказе о погребении старой Бимунни, женщины, которой, однако, было оказано меньше почестей, чем бренным останкам мужчины. Мы говорим о вполне австралийском ритуале — похоронном речитативе, который пелся над могилой и включал перечисление всех имен, тотемов и подтотемов покойного [790]. Остается только предположить (это, похоже, и сделала Паркер), что ритуалы для мужчин и женщин [791]используются разные, и что для одних не делается призыв к Байаме, а для других — нет призыва к тотемам, что лично нам кажется неправдоподобным. Дело в том, что для мужчин бы должны были использоваться оба этих похоронных ритуала, если только в давние времена не было серьезных изменений культа мертвых.
Паркер гарантирует подлинность второго, еще более спорного факта, то есть молитвы Байаме, хотя, по правде сказать, она не была его непосредственным свидетелем: поскольку речь идет об инициации, а она не присутствовала ни при одной церемонии бура [792]. Вот в чем она заключается. После второй инициации [793], когда юноше разрешается созерцать изображения великого бога Байамы и его жены Биррагнулу [794], вырезанные на деревьях, выдавленные в земле и прочерченные на газонах, когда он уже слышал священную песнь Байамы [795], юноша, как говорит Паркер, наконец присутствует во время молитвы, обращенной к Байаме старейшим из живых колдунов (wirreenuns [796]). Последний «просит» Байаму «продлить существование черных на земле, ибо они давно хранят верность его законам, что доказывает соблюдение церемонии бура». «Старый колдун много раз повторяет эти слова умоляющим тоном, повернувшись лицом на восток, где хоронят мертвецов». Можно задуматься, не является ли натяжкой эта интерпретация слов туземца и не примешивается ли уже в первом свидетельстве туземца определенная тенденция? Язык формулы оказывается вполне библейским [797]. Вполне может быть, что речь идет о ритуале, достаточно распространенном в этом районе Австралии, но не составляющем молитвы того рода, на который указывает Паркер. Во всех этих племенах центральной и южной части Нового Южного Уэльса старики устраивают нечто вроде демонстрации существования великого бога Байамы или другого на небесах [798], причем не только художественную (скульптуры, живописи и рисунка), но и словесную. Существует даже определенное число церемоний инициации, во время которых старик или старики, зачастую погребенные и как бы находящиеся на пороге перерождения [799], вступают в речевую связь с великим богом; находясь в могиле, если она есть, старик задает ему вопросы и отвечает, словно один дух беседует с другой нематериальной личностью. Во всех этих случаях, если мы сталкиваемся с молитвой в общем смысле, установленном нами, мы все еще далеки от формулы, представляющей собой нечто среднее между символом веры, воскресной молитвой и отзвуком десяти заповедей, вкладываемым госпожой Паркер в уста старых колдунов. Кроме того, если этот ритуал вообще существовал, то он должен быть недавним по происхождению, поскольку он еще не нашел своего места в излагаемом в другом месте мифе первой боры, установленной самим Байамой [800]: этот миф, основание всей литургии, ничего не сообщает о том, чтобы Байама велел людям, пользующимся его законами, молиться ему.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: