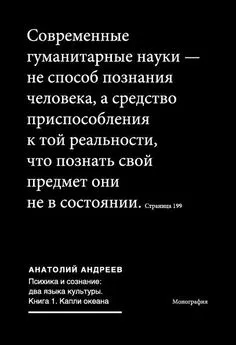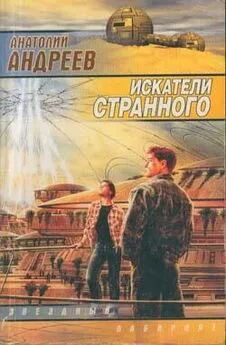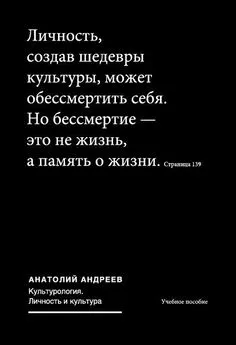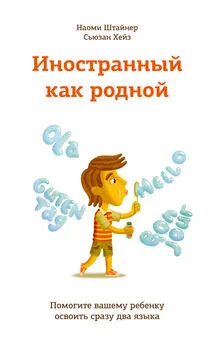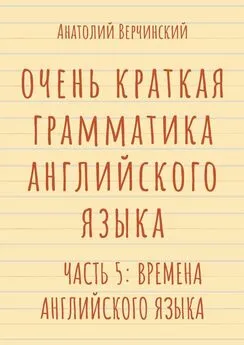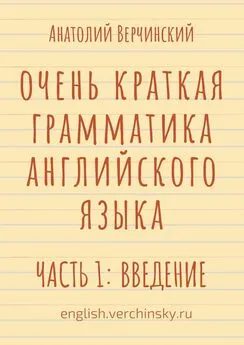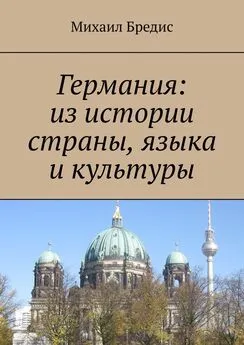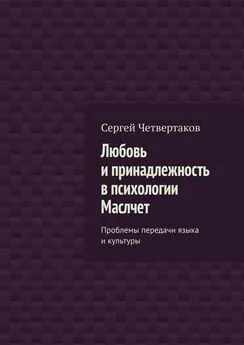Анатолий Андреев - Психика и сознание: два языка культуры. Книга 1. Капли океана
- Название:Психика и сознание: два языка культуры. Книга 1. Капли океана
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2000
- Город:Минск
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Андреев - Психика и сознание: два языка культуры. Книга 1. Капли океана краткое содержание
Во всяком случае, подобные вещи никогда еще не были в его власти. Он может лишь очень этого желать. Но получится ли, засверкает ли капля – об этом судить читателю. Капли безмерные и сверкающие – это установка, а не самооценка творческой продукции.
Психика и сознание: два языка культуры. Книга 1. Капли океана - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И все же последнее, что отдаст «умник», – свое одиночество.
Почему?
«Душам вожделеющим» этого не объяснишь…
Созидательна только психика. Ум сам по себе ничего не создаст. Интеллект творчески-созидательно продуктивен только как подчиняющаяся психике инстанция.
Все в мире создавалось и будет создаваться фанатиками, психоидеологически отмобилизованными ратоборцами.
Природа не терпит пустоты, а космос любит равновесие (и в микро– и в макромасштабе, и в духовном, и в материальном отношении; это – интуитивно ощущаемая посылка, исходящая из диалектически сведенной в точку ноосферы). Фанатики, ангажированные более или менее, уравновешиваются аналитиками.
Нельзя отдать и культуру, и мир в одни руки. Умные аналитики в качестве организаторов духовно-культурного пространства опасны не менее фанатиков.
Так в каждой личности (и обществе, и цивилизации) сосуществуют творящее и разрушающее начала, жизнь и смерть. Философски жизнь без смерти и смерть без жизни – это абсурд. Они выступают условием существования друг друга. Смерть (анализ, порядок, распад) точно так же стоит на страже жизни, как жизнь (синтез, хаос, катастрофа от переизбытка витальности) – на страже смерти.
Эти абстрактные полюса мироздания – в каждом из нас в виде психики-созидателя и интеллекта-аналитика.
Понимать – это всего лишь понимать.
А жить – это всего лишь жить.
Божественен лишь редчайший сплав психики и интеллекта. Но божественное плохо стыкуется с земным…
Для того, чтобы любить или ненавидеть людей, – надо как минимум сравняться с ними. Ненависть, как и любовь, – это непосредственное эмоциональное отношение, и, как всякая неуправляемая, стихийная психологическая реакция, она в определенном смысле является симптомом жизни.
Однако если человек культивирует «философскую психологию», то он становится неспособным к безотчетным и достаточно продолжительным «порывам души». Философская психология – это совершенно особая регуляция, где чувство изначально заражено гибельным по отношению к себе свойством: еще не набрав силу, оно уже «знает», что чувство пройдет. И живет такое чувство в режиме «интеллектуальной эмоции»: не «буря и натиск» его девиз, а «укрощение строптивого».
Философская психология в известной мере является результатом укрощенной жизни, управляемой психики. Ни ненависть, ни любовь в «чистом виде» не могут быть рождены в философской душе.
Пожалеть таких людей?
Но безотчетная, «дурная» жалость есть отношение людей, которым чужда философская психология и которые с точки зрения последней, сами заслуживают мудрой жалости.
Для интеллекта смерть – всего лишь неизбежный акт природного цикла, который должен вызвать разумное смирение в силу своей фатальной предопределенности. Проблемы смерти для интеллекта – нет.
Для психики смерть – это беспредельный ужас, тотальная истерика, отчаянное безальтернативное неприятие и протест. Для психики, которая и есть форма жизни, точнее, непосредственное бытие жизни, проблема смерти – неразрешима (поэтому и появилось иллюзорное, идеологическое разрешение: «смертию смерть поправ»).
Для человека смерть – это проблема разумного и неразумного отношения – проблема, придающая смысл жизни.
Идеологи изощряются в поисках все более совершенной защиты жизни, а не в поисках истины. Их истина – жизнь.
Мысль изощряется именно в постижении истины и потому нажила себе могущественного и непобедимого врага: идеологию.
Все на свете противоречиво. Мысль выступает условием совершенства идеологий (новая истина порождает новую идеологию, которая приспосабливается, адаптирует истину к жизни, не считаясь с искажениями), а идеологии в какой-то степени гуманизируют мысль.
Получается, что жизнь, породив себе защитницу-идеологию, породила и ее могильщика – сознание – в конечном счете для того, чтобы беспредельно совершенствовать защиту. Ничто так не стимулирует жизнь, как присутствие истины-смерти.
Свобода как таковая, как условный абсолют, положенный в основу реального отношения, проявляется в одном, а именно: свобода возможна только как свобода от иллюзий; все остальные отношения, составляющие комплекс свободы, есть несвободные аспекты свободы (ограничения рамками осознанной необходимости оставляют свободу только в границах несвободы).
Поэтизируется же всегда «абсолютный» компонент свободы, свобода отождествляется с психической свободой (так называемой волей), понимается как свобода не считаться с необходимостью, что является, по существу, самой заурядной иллюзией, т. е. грубой несвободой.
В основе поэтизируемого стремления к свободе всегда обнаруживается скрытая зависимость от капризов подсознания.
Над людьми тяготеет два проклятия, порожденных человеческим сознанием: проклятие идеологической одномерности и проклятие философско-рациональной многомерности. В первом случае человек мыкает горе от глупости (но это еще с полгоря), во втором человека постигает горе от ума (горе безысходное). «Идеолог» видит мир с одной стороны, он несомненно прав – и это дает ему силы, веру и надежду. «Философ» видит мир с разных сторон, он понимает, что не правы все, даже те, кто несомненно прав. Где уж тут взяться вере и надежде?
И тем не менее идеолог и философ не спешат разойтись. Они завороженно всматриваются друг в друга: первый в надежде, что философ сумеет объяснить всем раз и навсегда его несомненную правоту, второй – боится верить своим глазам, видя перед собой почти счастливого человека и втайне завидуя его способности жить скудоумными мифами.
Как ни кощунственно звучит, хочешь быть счастливым – будь в меру умным. Меру же всегда определяет социум, выбраковывающий дураков и умников с равной безжалостностью. Идеолог, тянущийся к философу, полагая, что ум принесет еще больше счастья, окончательное счастье – вот идеал счастливца. Он (счастливец) почти избегает проклятия, находясь на пути от одного проклятия к другому.
Да продлится этот путь сколь можно дольше.
Люди, будьте счастливы.
Неужели действительно психология становится философией, по крайней мере, философией человека?
В значительной степени – безусловно. Правда, для этого необходим такой пустячок, как наличие концепции сознания. Только такая «вершинная» психология проясняет, а не запутывает человека.
… И дьявол в старости становится праведником.
Если это народная мудрость, то самое поразительное здесь то, что она народная. Глубина формулы неисчерпаема, и по этой причине достойна комментария.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: