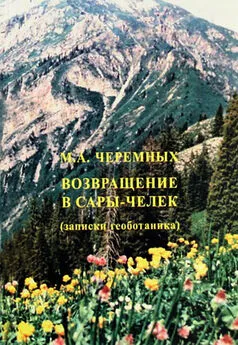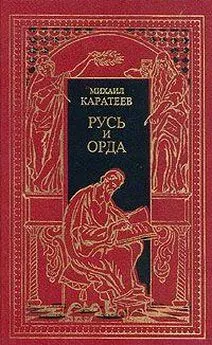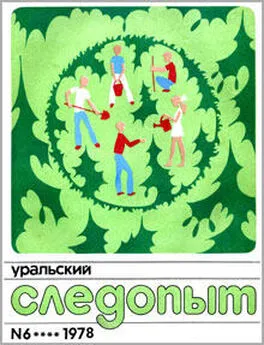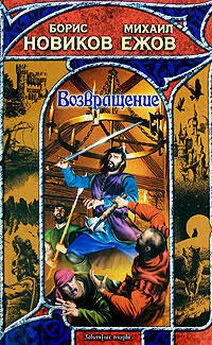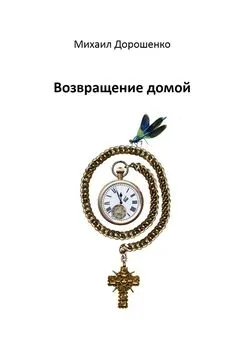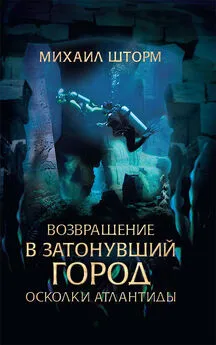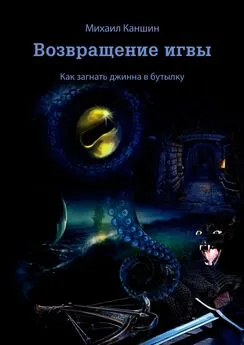Михаил Черемных - Возвращение в Сары-Черек
- Название:Возвращение в Сары-Черек
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Товарищество научных изданий КМК
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-5-87317-467-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Черемных - Возвращение в Сары-Черек краткое содержание
На страницах книги Вы найдете целый ряд интересных наблюдений и приключений самого разного плана, развивающихся на фоне пышной растительности Западного Тянь-Шаня, в Киргизии. Вы пройдётесь по уникальным ботаническим ландшафтам, побываете в ореховых лесах, в зарослях высоких зонтичных, на альпийских лужайках и в высокотравьях сырых ущелий… Книга написанная на изломе эпох, в атмосфере последнего издыхания СССР, отразила на своих страницах характерные особенности происходящих в это время событий и перемен, как в обществе, так и в сознании людей, в том числе автора. В книге нет ни одной вымышленной фамилии, все названные её герои реальны, в большинстве работающие и здравствующие ныне, все события – маршруты и наблюдения – происходили так, как они описаны. Даже если философские выводы книги пессимистичны, вам не будет скучно на её страницах.
Книга хорошо иллюстрирована фотографиями автора, пополнена фотографическим материалом и рисунками из других изданий, ссылки на которые перечислены в соответствующих разделах.
Возвращение в Сары-Черек - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Ловлю себя на ощущении, что со смешанным чувством тревоги и радости уезжаю от городской спешки и суеты. От житейской неустроенности и от однообразной необходимости каждый день приезжать в Институт. От пыльных автобусов, заплеванных улиц и подъездов домов, вызывающих чувство отчаяния, что люди сами создают вокруг себя такие условия. От неотредактированных статей, от неотправленных писем…
Уезжаю с надеждой, что где-то в горах, ритм жизни будет иной и возможно на крутом склоне или под развесистым орехом я смогу привести в порядок свои мысли, сделать новые описания ботанических ландшафтов, найти недостающие звенья классификационной схемы…, уезжаю и от необходимых срочных дел, с которыми не всегда легко расставаться.
Не смотря на все проблемы связанные с отъездом, особое удовлетворение доставляет мысль, что я, наконец-то, надолго расстаюсь с начальством. Я не имею в виду давно уже перешагнувшую пенсионную черту жизни Лидию Ивановну – начальников и без неё было достаточно. Напротив, в ней я видел последний «реликт», «оплот», «форпост» еще сохранившейся, но уже безвозвратно уходящей в прошлое «классической ботаники». Образы её современников можно найти сейчас только в «воспоминаниях» старых книг. За несколько лет совместной работы у нас не было недоразумений, обид или ссор. Не досаждало и другое – предпенсионное начальство, считавшее своих младших коллег чем-то вроде разнорабочих и возложившее только на себя заведомо непосильную задачу – быть единственными сподвижниками современной геоботанической науки. Не раз на собраниях, я слышал их воодушевленные возгласы: «Мы идем верным путем!» Так было всегда, когда дело касалось «стратегических направлений» в геоботанике. А были ли таковые? На меньшее – они не шли. А впрочем – и они были неплохие люди, по-своему симпатичные, интеллигентные, как и все ученые.
Месяцем раньше. Мы работаем в Институте. В открытое, но зарешеченное окно свесилась листва и белые от обильных цветов ветви какой-то южной черёмухи. Комнату наполняет чудесный аромат. На улице тёплая, мягкая, совершенно не забываемая, фрунзенская весна. Перед нами развернута очень старая, рукописная, геоботаническая карта, о годе составления которой можно только догадываться. Может, 1930 или 1933-й.
– Этот контур так и тянется вдоль хребта, он рассекается долинами рек, – говорю я. Речь идет об классических пастбищах в лугостепном поясе Киргизского хребта, описанных ещё Р.И. Аболиным.
– Да, согласна, но там уже совсем другая растительность. Хорошо, если сохранились фрагменты от этих лугостепей, – слова предвещали кропотливую работу над контуром, и то, что мы еще не один час просидим, не разгибаясь, перед разложенными на столах свитками, картами, пока не проверим все первоисточники, или до тех пор, когда мало кому ведомые названия глухих ручьёв, ущелий, пересекающих исследуемые контура, на время не переключат нас на более свободные темы, а там глядишь, подоспеет время полдника или обеда.
Мы работаем над другим листом.
– В этом ущелье, Куляма-Сае, простояли три дня. Не запланированные были дневки [1] Однодневные остановки на отдых, во время экспедиции.
. Зато нашли там ореховые деревья, рощи из боярышника и клёна. А это говорит о том, что орех встречался в ущельях Кетмень-Тюбинской котловины и нередко. Причины его исчезновения там не установлены, я думаю что вырубки. А места, что говорить – великолепные. В то время растительность не была так сильно стравлена и вытоптана… А вот здесь, по водоразделу, я помню, такие пышные травостои, с головой скрывали, – карандаш соскользнул в низ, на дно Кетмень-Тюбинской котловины. – А здесь, к сожалению, затоплены реликтовые пустыни и полупустыни. Их даже не успели изучить как следует, описать. В те времена ни у кого не спрашивали, как впрочем, и сейчас, но с поездками проще было, и с машинами больших проблем не возникало. На месте всегда можно было арендовать лошадей. Да и народ другой был. Раньше палатку можно было оставить, не закрывая, никто не посягнёт на наши вещи. Уходили на весь день. Вечером приходили – все на месте. И так было всегда. А теперь? Из-под носа утянут, только отвернись. Темы для разговоров непроизвольно вытекали из самого процесса нашей работы – из географических названий, они навеивали различные ностальгические воспоминания экспедиций, маршрутов, имен… Лидия Ивановна вспоминала геоботаников, флористов – своих коллег, с которыми работала или встречалась в прошлые годы – Р.И. Аболина, М.Г. Попова, Е.П. Коровина, СИ. Кудряшова, М.М. Советкину, И.В. Выходцева… Этот список можно продолжать долго. В личной библиотеке она хранила десятки книг с дарственными подписями авторов. Я брал у неё необходимые для работы издания, уже ставшие библиографическими редкостями и почти всегда находил на обложках выгоревшие чернильные строки автографов с датами начала 1930-х годов до последних дней.
– То были совсем другие люди. Таких сейчас нет. В доме у Е.П. Коровина говорили по-французски, это они специально говорили, чтобы не забывать, ведь дворяне. Такой отголосок дореволюционной России.
– А в экспедициях, Вы с ним, бывали?
– Раза два, – Лидия Ивановна замотала головой утвердительно. Иногда приоткрывались какие-то тайны и снова захлопывались, плотно, непроницаемо…
– А с М.Г. Поповым?
– С М.Г. Поповым, нет, не ездила. Он упрямым был, нарывался на скандалы, с начальством. Ему машин не давали, пешком ходил по горам, но лучше его никто растения не знал… Где-то на съезде литераторов выступил, в Прибалтике, что ли, и зачем он туда полез, что ему там надо было? Так что его сразу же отправили почти на Камчатку. Оттуда он уже не вернулся. – Лидия Ивановна не развивала тему. Она знала очень много. Знала как «съели» другого ученого – А.И. Янушевича, работавшего в стенах этого Института. Как-то, я наткнулся на черновик «протокола» партсобрания Института, случайно или не случайно оказавшийся среди наших бумаг – отрывок текста в одну страницу, где критиковали и унижали этого крупного ученого, и критиковалии как раз те, кто и ныне ничего из себя не представляет. Я вижу их в Институте, сидящими за своими столами, уже постаревшими. Они приветливы и любезны. Пожимая им руки, я думал, как бы я повел себя в то время?
– А с Р.И. Аболиным, Лидия Ивановна, встречались?
– А как же, – и, словно что-то вспомнив, она проговорила, – ах, Роберт Иванович, Роберт Иванович, это был замечательный человек. Приходилось в экспедициях с ним бывать. Студенткой ещё. За что-то их всю семью из Питера выслали, между собой разделили, так что все в разных концах жили, и где-то сгинули, никто не знает, а ученый был известный…
– А с О.Э. Кнорринг?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: