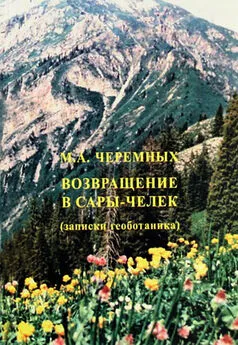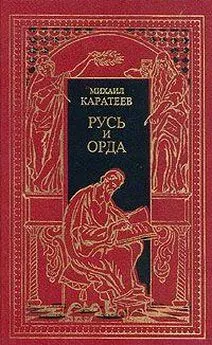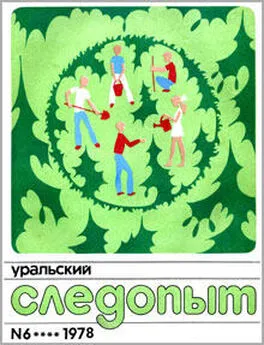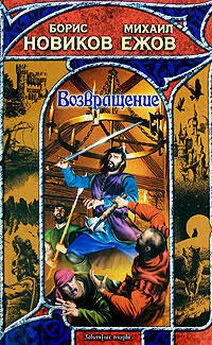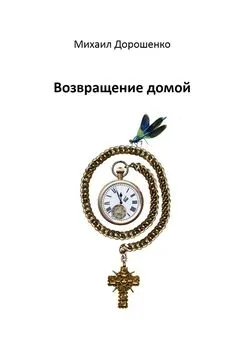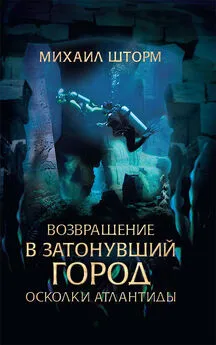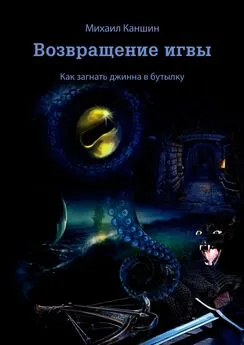Михаил Черемных - Возвращение в Сары-Черек
- Название:Возвращение в Сары-Черек
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Товарищество научных изданий КМК
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-5-87317-467-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Черемных - Возвращение в Сары-Черек краткое содержание
На страницах книги Вы найдете целый ряд интересных наблюдений и приключений самого разного плана, развивающихся на фоне пышной растительности Западного Тянь-Шаня, в Киргизии. Вы пройдётесь по уникальным ботаническим ландшафтам, побываете в ореховых лесах, в зарослях высоких зонтичных, на альпийских лужайках и в высокотравьях сырых ущелий… Книга написанная на изломе эпох, в атмосфере последнего издыхания СССР, отразила на своих страницах характерные особенности происходящих в это время событий и перемен, как в обществе, так и в сознании людей, в том числе автора. В книге нет ни одной вымышленной фамилии, все названные её герои реальны, в большинстве работающие и здравствующие ныне, все события – маршруты и наблюдения – происходили так, как они описаны. Даже если философские выводы книги пессимистичны, вам не будет скучно на её страницах.
Книга хорошо иллюстрирована фотографиями автора, пополнена фотографическим материалом и рисунками из других изданий, ссылки на которые перечислены в соответствующих разделах.
Возвращение в Сары-Черек - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– С ней – встречалась, на конференциях и совещаниях в основном. Мы часто беседовали. Вы же знаете, она ещё в 1911 году с переселенческими экспедициями выезжала, и не один раз. Одна из первых побывала в вашем Сары-Челеке…, и с М.В. Культиасовым встречалась, этот наш – ташкентский, я у него училась. И у Е.П. Коровина училась… Брат его растения рисовал. У меня есть их совместная монография «Ферулы» – огромная книга, форматом в метр, подаренная автором, там все рисунки ферул, почти в натуральную величину. Анна Григорьевна её взяла, так и не вернула. Это потомки того художника…, и М.М. Советкина с Ташкента, она там в Институте коневодства работала, пастбища изучала. Ездили много и зимой и летом, ученые тогда себя не жалели, сейчас жалеют, а тогда – нет…, В.И. Липского не видела, он тогда уже старый был, правда последнее своё путешествие совершил в преклонном возрасте. Теперь нет таких величин, тем более, среди наших… – она хотела что-то еще добавить, но замолчала.
– А Анна Григорьевна, это кто?
– Вы что, Михаил, А.Г. Головкову не помните, она в Сары-Челек выезжала где-то в начале 1970-х гг. Аспирант был у неё, кавказец, Борлаков, вроде, фамилия. Она тогда Центральным Тянь-Шанем занималась и труды у нее по Центральному Тянь-Шаню имеются. Один экземпляр своей монографии она мне подарила. А вот карта у неё некудышная, вранья много. Я этой карте не доверяю. Х.У. Борлаков потом уехал куда-то в Европу работать. Больше Сары-Челеком никто по серьёзному не занимался…
Несколько лет назад, приехав в Бишкек, город назывался тогда Фрунзе, в коридорах университета я с нетерпением ждал встречи А.Г. Головковой. Она отпустила студентов и вышла из аудитории, держа в руках стопку книг, среди которых по темно-синей обложке я узнал её знаменитую монографию «Растительность Центрального Тянь-Шаня». Эффектная, солидная дама, профессор, быстро пошла вдоль коридора к своему кабинету, не обратив на меня внимания, я побежал вслед за ней.
– Анна Григорьевна, можно с Вами поговорить, я ботаник из Сары-Челека, мне нужен руководитель, по теме «Растительность…», не могли бы Вы взять меня… – быстро проговаривал я суть вопроса, опасаясь, что больше такого шанса может не быть, моя командировка заканчивается вот уже завтра. Она остановилась.
– Нет, нет, я очень занята, у меня студенты и у меня уже есть аспиранты. Вы зайдите в Институт биологии, в Академию наук, там есть лаборатория геоботаники и найдите там Л.И. Попову. Она известный в городе, в республике специалист. Сейчас они работают над правительственным заданием – Геоботанической картой Киргизии. Там задействовано много людей из Ленинграда, из Ташкента. Может быть, Вам удастся с ней договориться. Там есть еще новый заведующий лабораторией, только что защитившийся доктор наук A. C. Цеканов. С ним тоже поговорите. – Анна Григорьевна направилась по коридору в свой кабинет.
Я так и поступил. В Институте биологии меня сразу же приняли как своего будущего сотрудника. Некоторую роль здесь сыграло то, что я какое-то время работал в Институте географии в Иркутске, и меня не надо было готовить как специалиста. Л.И. Попова, предложила мне перебраться в Бишкек. Она поставила вопрос перед начальством о моём переезде в столицу, и начальство не имело возражений. Объявили конкурс – опубликовали в газете условие на занятие вакантной должности научного сотрудника, и через месяц я уже был в столице. С сожалением мы покинули Сары-Челек, подрастали ребята и им надо было идти в школу.
Обстановка в институте в те времена была доброжелательная. Сотрудники очень хорошо относились друг к другу, все были любезны, искренни, добры. Проходили ученые советы, конференции, экспедиции, издавались сборники…
Не было сплетен, злословий, интриг, и мне посчастливилось поработать в прекрасном коллективе, где директором был уважаемый всеми член-корреспондент М.М. Токобаев. Он разрешил моей семье временно поселиться на экспериментальной базе Института биологии Кок-Джар, пока не будет подыскано другое жильё. Временное растянулось на 10 лет. Если бы Анна Григорьевна тогда взяла меня в свои аспиранты, мы не переехали бы в Бишкек. Раза три по каким-то делам А.Г. Головкова появлялась в нашей лаборатории. Может быть в качестве консультанта её приглашала Лидия Ивановна. В последний раз она заходила совсем недавно. Рассказывала о былых поездках на Чаткальский хребет еще с Е.П. Коровиным, как давно это было и какие это незабываемые годы, когда впереди маячили светлые десятилетия блестящей карьеры ученого. Совершенно неожиданно она пожаловалась на изменившуюся ситуацию в связи с новыми политическими веяниями в стране.
– В одночасье, в одночасье, нас лишили всего… – мужа, она называла его по имени отчеству, лишили должности, сбросили в низ с такой высоты. Он занимал в правительстве какой-то значительный пост… и Анна Григорьевна уже не декан факультета и не заведующая кафедрой ботаники в университете, и даже не рядовой преподаватель. Её просто отправили на пенсию.
Мы снова нагибаемся над картой. Наш кабинет – большая, серая, мрачноватая комната. Вдоль стены размещались гербарные шкафы, в которых хранились изученные и определенные крупными специалистами, гербарные образцы растений, в том числе – эдификаторов и доминантов разных растительных сообществ с отдаленных хребтов Тянь-Шаня. Мы тесно сотрудничали со специалистами лаборатории флоры – P. A. Айдаровой, P. M. Султановой, И.Г. Судницыной, побывавшими в разные годы в Сары-Челеке, а так же с флористами Института ботаники, из Ленинграда.
Это был очень ценный материал для сравнения и избежания ошибок. Столы стояли посредине комнаты, прикрывая проход. В переднем углу большой сейф, в котором хранились сотни разных рукописных и печатных карт, с грифом «Секретно», пачки геоботанических описаний, полевые дневники и легенды к картам. Во втором отделении сейфа – десятки книг для текущей работы. Книги имели свойство исчезать со столов, и их прятали. Основными материалами, с которыми мы работали, служили не только личные наблюдения в экспедициях, но и карты земле- и лесоустройств прошлых лет. В связи с этим я часто работал в картохранилищах земле- и лесоустроительных предприятий. Наиболее интересными представлялись первые геоботанические карты, составленные в двадцатые и в тридцатые годы, но их было мало. Они напоминали детские рисунки, казалось, совсем недавно были раскрашены цветными карандашами. Вчитываясь в названия контуров с прангосниками, с арчевниками, я видел начерченные, островершинные горы с блестящими ледниками на верху и сбегающими с них голубыми лентами ручьёв, рек и мысли уходили куда-то в те времена, под палящее солнце 30-х, и в пыль экспедиционных караванов…, а я стоял на краю дороги, провожая их взглядом. Значительно больше карт было выполнено в 1940-е и в 1950-е годы. Они составлялись с участием или под руководством лидирующего тогда в Киргизии специалиста, в области геоботанического картографирования, И.В. Выходцева, в последствии крупного геоботаника. Выполняли эту, несомненно интереснейшую работу, выезжали в опасные экспедиции, в разные уголки Тянь-Шаня, фрунзенские геоботаники – И.В. Вандышева, А.Н. Гусарова, П.Т. Жудова, В.И. Сорокина, В.Л. Фомичова, М.Д. Здвижкова, А.И. Одинцова, А.Г. Черкасова, В.В. Танеева, Л.Н. Михайлова, И.Н. Соколова, А. Μ. Молдояров, Г.С. Сабардина, М.Д. Петрова и другие, среди них Л.И. Попова и В.И. Ткаченко. Чертились карты на разных материалах: на ватмане, картоне, кальке, на тканях или холстах, иногда очень тонких и прочных. В большинстве это были интересные работы, настоящие произведения искусства. В картах 1960-1970-х годов не было недостатка. Мы работали с огромными, легко рвущимися листами бумаги, они представляли собой целые простыни, и я с неохотой их развертывал. Найти на них что-либо было сложно. Мы находили объекты – нужную речку, гору, склон, по возможности выделяли контуры обозначенной растительности и сверяли с контурами новейшей космо-фотосъёмки. Каждый контур на листах космофотосъёмки должен был найти свой прототип па листах старых карт. Этот важный момент работы трудно было упростить, мы многократно контролировали себя, сверяясь с другими источниками… Уже хочется заныть – «…ну, убедились, Лидия Ивановна, начнем проставлять номера…», но мы ещё и ещё раз сверяем каждый контур с первоисточниками.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: