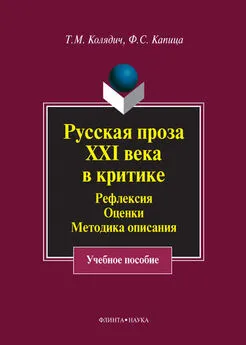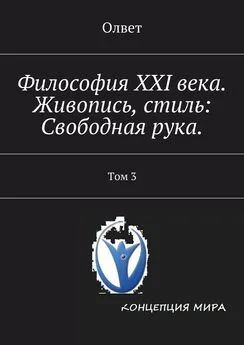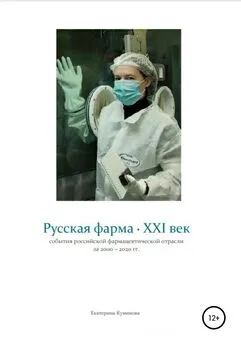Михаил Ермолаев - Русская философия XXI века. Максимы
- Название:Русская философия XXI века. Максимы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «ИОИ»
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-88230-312-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Ермолаев - Русская философия XXI века. Максимы краткое содержание
Русская философия XXI века. Максимы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Индеец посылал дым всему, что его окружало. Он переговорил со всеми предметами. Это образный, то есть конкретный и наглядный рассказ, на смену которому пришло абстрактное метанарративное описание. Речь умертвила чувственный мир. Или, как говорит Гегель: «Образ умерщвляется, и слово заменяет образ» [5] Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет в двух томах. Т. 2. М., 1971. С. 21
. Слово-знак превращает образ в нечто безобразное. Например, я говорю: «Это лев». Здесь имя становится сутью дела, а когда имя становится сутью дела, тогда миром начинает править логос. Вот пример правления логоса. Я возьму его из «Бытия и ничто» Сартра, который рассказывает о том, как он бросал курить. «Курение, – пишет Сартр, – является разрушающей реакцией присвоения». [6] Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. М., 2000. С. 599.
Сартр – эгоист. У него «Я» – это черная дыра, вбирающая в себя и разрушающая в себе весь мир. Табак для него – это символ присвоенного бытия, а затяжка – способ его разрушения. У бушмена «Я» смещено из центра. Сартр – это монстр, центрированный вокруг своего «Я», своего языкового ничто. Посредством выкуриваемого табака он объявляет войну всему сущему. Мир, – говорит Сартр, – горит и дымится, растворяясь в дыму, чтобы войти в меня.
Еще один пример действия логоса я возьму из «Медицинской психологии» Кречмера, который рассказывает о том, как серия односложных наглядных образов превращается в абстракцию. Например, «место-варить-что-нибудь» – все это, благодаря агглютинации образов, превращается в абстрактное понятие кухни, а «место-садиться-солнце» превращается в понятие запада.
Наскальная живопись не нуждается в речи, ей не мешает язык. Изображения животных никогда бы не появилось, если бы человек сначала научился говорить, а потом взялся бы за кисть. В изображениях палеолита есть та наглядность и конкретность, которая невозможна в присутствии слова. Почему? Потому что оно заставляет нас смотреть на мир абстрактно, в горизонте логоса. Мы и сегодня смотрим на вещи и видим не вещи, а их суть, то есть мы видим их абстрактно, а не конкретно. Функция слова состоит не в том, чтобы вызывать наглядные представления, а в том, чтобы делать их ненужными. Мы говорим «мир», но мы не зарываем боевой топор в землю.
Первобытные художники определяют целостность нашего бытия не через слово, а через образ. Не язык был первой самопрезентацией человека, а искусство. Живопись палеолита – это письмо до речи, то есть письмо как образ, письмо без знаков, ибо важнейшим свойством знака, как заметил Деррида, повторивший мысль Гегеля, является свойство не быть образом.
Язык не позволяет заглянуть за себя тем, кто перестал ощущать в себе родство с первобытным художником, кто смирился с тем, что слово занимает место образа. Но язык – это всего лишь репрезентация в слове того, что уже было сделано умозрением в красках во времена первобытного шизофреника.
Из вышесказанного следует сделать вывод: не язык дом нашего бытия, а греза доперсонифицированной субъективности, пойманная первобытным художником. Лишаясь поддержки языка, мы не можем потерять уверенность в себе, ибо нас поддерживает выходящее за его пределы означающее себя означаемое.
Прощание с логосом
Первобытные художники заставляют признать нас, что начало истины человека лежит не в логосе, не в следовании уже сложившимся нормам и правилам. К этому началу нельзя подойти линейно, мало-помалу, ибо в случае линейности своего мышления мы будем продлевать только то, что уже есть. То, что есть, будет и в прошлом, и в будущем. Если же мы прибегнем к парадоксальной мысли, которая не является системой и не нуждается в поддерживающей ее целостности, то мы откроем для себя опасное прошлое и опасное будущее. Откроем то, что опасно только потому, что не следует нормам, и что, следовательно, узнается не как истина-алетейя, принадлежащая логосу, а как истина-мистерия, лежащая вне нормы и вне логоса. Так мы открываем свое ненормальное прошлое и ненормальное будущее, случайным аспектом которого является нормальность настоящего.
Поскольку изображение и письмо нерасторжимо слились еще во времена наскальной живописи, когда еще не было звуковой речи, постольку письмо предшествует речи.
4. Аутизм с точки зрения философии
Не язык, а молчание является адекватным способом существования человека. Autos – значит «сам», то есть по своей воле, имманентно, а не по внешним обстоятельствам. Для психологов аутизм исчерпывается отклонением от нормы, болезнью, слабоумием. Для философии в аутизме важен отказ от идеи внешней причины и признания фундаментального статуса непредсказуемой случайности. Дисциплинарный ум психолога надзирает и наказывает за провинности, за самостоятельность. Он называет отказ от причины слабоумием. Для философии важно ускользнуть из-под надзирающего ока психологии, чтобы пересмотреть само понятие причины. Причину не следует понимать как внешнюю причину. В терминах внешней причины невозможно понять, как образовался горизонт человечески возможного события. Причину следует понимать как имманентный переход своего предела, как переход, на котором случаются срывы и падения, но также бывают и удачи.
Не внешняя причина, а самовоздействие образует горизонт понимания человека. Переход предела, который непрерывно воспроизводится силами имманентного, погружает человека в бесструктурный поток бытия. В этом потоке мир не скован логосом, не упорядочен законами, не расчислен понятиями. В нем нет устойчивости, в нем не за что ухватиться. Поэтому не логос, не норма служит объяснительным принципом в антропологии, а воображение. Не мыслимость мыслимого, а мыслимость немыслимого должна определять стратегию исследования человека.
Внутри бесструктурного потока теряется различие между субъектом и объектом. Аутизм открывает перед нами мир не изначального опыта, а изначальный мир нетелесного опыта воображаемого. Он изначален потому, что за воображаемым стоит то реальное, которое исключает саму возможность бытия в качестве человека.
Опыт отношения к самому себе, воздействия на себя предшествует всякому другому опыту. Этот опыт невыразим в словах. О нем невозможна память. Невозможно воспоминание. О нем говорил Платон в мифе о человеке-кукле, когда говорил, что человек – единственное существо, которое может быть сильнее себя или слабее себя. В пространстве человека ничего не существует, но все становится. В этом доинтерпретативном нерепрезентируемом мире нет различия между чувственным и рациональным. Всякий опыт может быть редуцирован к эмоциональным пятнам мира или, как говорил Мах, к чувственной первооснове мира.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: