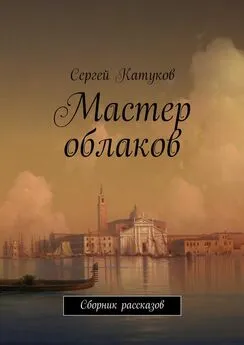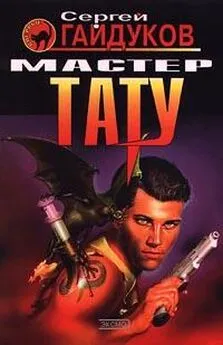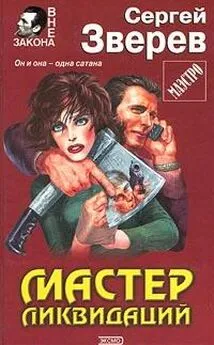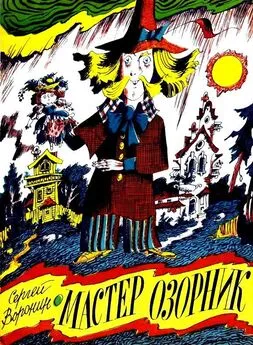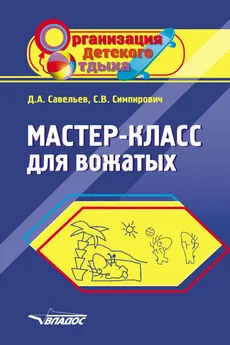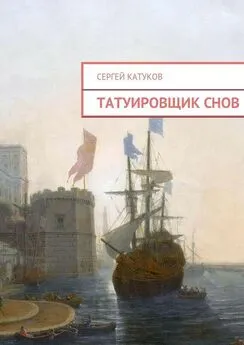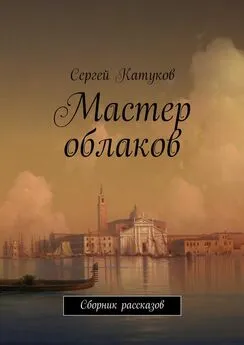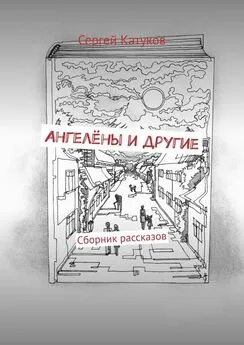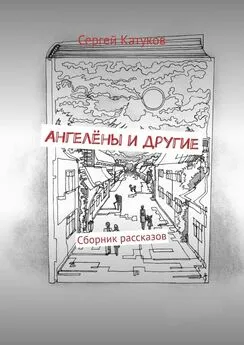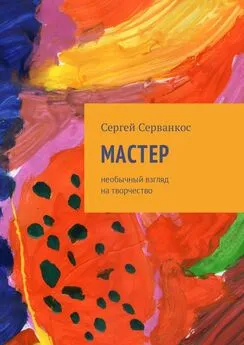Сергей Катуков - Мастер облаков
- Название:Мастер облаков
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2018
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Катуков - Мастер облаков краткое содержание
Повесть «Лабиринт двойников» возглавила избранное журнала «Новая Юность» за 2015 г., рассказ «Татуировщик снов» публиковался в журналах «Космопорт», «Edita», «Мир фантастики».
Мастер облаков - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«Нет, до Древелега возьмусь выйти только завтра. Переночую у деда. Поговорим, помечтаем, попьём живого медку с пасеки… как там, интересно, Осинь поживает? А Доборынь? А худо-толстый Путяй? А Далег? А лошадки, мал мала меньше? да чем меньше, тем крепче… Дааа, лошадки у деда чудные, — сладко как-то подзадумался Ярослав, вспомнив и „живой медок“, и карликовых лошадок, которых сторговали деду дарданские барышники за великолепных бархотных скакунов. И ведь как хвастал же, что почти задаром выторговал. Ан проходит год-другой — лошадки не растут, хотя масть точь-в-точь бархотного быстро-пегого завода. — Вот тебе и дарданские мужички, обскакали деда, нахабарились!»
Но лошадки с норовом, с искрой, превесёлые: домчат если уж не мигом, то потешат любого седока.
У Ярослава за спиной котомка с подарками деду, Осиню, Далегу, остальным домочадцам, с десятком мундштуков для лошадок, выкованных Сизынем, непревзойдённым кузнецом, а также на самом дне спрятан драгоценный, секретный вес — это уже только деду с глазу на глаз. По важному делу.
Пересёк Ярослав и Плотницкий квартал, и Мукомольный городок, и Перинные ряды, и навершную Серединную площадь, и Ярмарочный Посёлок — вот и Ткацкая слобода и Батяевский домище с мастерскими на первом этаже, — из широких проёмов, посредину ушед в землю, уже слышны и крики, и стук-перестук станков; с жилой частью на втором уровне, где оклады вокруг окон, как разноцветные и разноформенные леденцы, забавляют глаз, с обширной покатой крышей, где вместо конька в разные стороны смотрят две деревянные конские морды — несбывшиеся бархотные скакуны.
«Тут бы и деду появиться», — думает путешественник.
А вместо него видит рыжего тонкого мальчишку, расконопаченного по всему лицу, растрёпанного от волос до запылённой рваной бахромы на штанах.
— Здорово, дяденька! — кричит он с вершины высоко сплетённого забора и, полузгивая семечку, небрежно зыркает на него. — Тебе чего надо?
— Я к деду Батяю. Слыхал, что он дока пошить всякую вещь, а мне тут соткать надо кое-чего. — А сам думает: «Ну, только спустись, я тебе такого «дяденьку» покажу…». — Спустись-ка на минуточку, у меня тут подарок. Не узнал, что ли?
— Не, иди, дядь Ярослав, сам, узнал. Мне сегодня неохота. А подарок здесь оставь, я потом посмотрю.
— Ну-ну, это я посмотрю, как ты вечером попляшешь.
— До вечера далековато. — И смеётся, рыжий нахалец, только с рубахи сыплется отлузганная шелуха.
А вот и дед, поднимается из мастерских, услышав разговор.
В былые времена подряжалось на Батяя работать до ста человек.
Торговля была что надо! И в Лебедень, и в Тьмумуровьедь, и за Истмийские горы летели батяевские кружева, и весь путь от Изамира был устлан крепко-шитыми скатертями его мануфактуры, и всё Трапезундское побережье обряжалось в изящные камзолы, курточки, платья, туники, сработанные у него. «А как есть у вас батяевские штанцы? а безрукавки? а панталоны, жилеты, расписанные красной ниткой? а доставили ли, как мы заказывали, рукавцы и кальсоны нежные, ночные? а свадебные полупрозрачные шлейфы, плотные огнеупорные фартуки и всякое другое?» — торопливо спрашивали перекупщики на рынках.
— Ну, это когда было? — тянет сладким хриплым голосом дед, прихлебнув медовухи.
Уже вечер. Ярослав перевидался с дедовыми домочадцами, поздоровкался с работниками, раздарил подарки — да не все пока что, — примерил мундштуки на лошадок, пожурил Осиня. Сидят они теперь вдвоём с Батяем, разговаривают о важном деле.
— Дед, опять нужно сходить в Древелег.
— Давненько я там не был… — чинно причмокивая, пьёт разогретый хмельной напиток дед. — Хорошо там, но странно… Как возвращусь оттуда — сам не свой будто. Всё вроде на месте, а как бы не так, как раньше… Как будто что перестановили, переделали в нутре…
— Надо, очень надо сходить… За нами дело не станет. Вот, что если тебе дам серебряных и золотых ниток, — и достаёт из котомки клубки, каждый с кулак, — а вот красно-медная нитка, а вот асбестовая ткань, а вот неплавкая фольга, а вот стальная леска для боевых рубашек. И всё в подарок. И ещё заказ тебе поручим. Такой, что… — и, махнув рукой, мол, «да что говорить, смотри сам», вытаскивает с самого дна аккуратно сложенный пергамент. — Нужно, дед, вышить на большом полотне вот эту карту. Работа нужна самая тонкая и изящная. Счёт по ней особый. Вот задаток. — И развернул из тряпочки ноздреватый золотой самородок, по форме словно сросшиеся картофелины.
Дед кивает, допивает медок, берёт одной рукой самородок, — тяжёлый! — подхватывает двумя ладонями, взвешивает. Видно, что так доволен Батяй, так доволен, что как ребёнок, раскрасневшись, прыскает:
— Пойдём хоть в Древелег, хоть за Древелег, хоть три раза вокруг Пьяных болот!
Потом рассматривает пергамент.
Это древний документ, вытатуированный в дремучие времена и содержащий всю известную карту мира.
Из него, словно выброшенного из глубины веков на берег нынешних времён, весь горный народ Ярослава и черпал свои представления о том, как должны выглядеть веси, земли поднебесные, страны подгорные и горные, края лесные и речные, широко разбросанные по всему миру.
В верхнем правом углу изящно изображался толстый, похожий пропорциями на белый гриб, почти в четверть карты, сказочный город-дерево, вынутый из земли, — с кудряво-затейливыми корнями, толстеньким стволом и верхушкой, украшенной дубовыми листьями и желудями, над которой полуовалом вскакивало название: Древелег.
Ещё бежала по карте река Извилиста, а за ней шумел Дикий Лес, и слева от него по кромке падал в гигантских клубах тумана водопад, отмеченный облаками. Но дальше на карте пятнами вспыхивала пустота, разъевшая своим лядащим дыханием много стран, тянущихся к югу. Запад же, лесной, вторгавшийся в Пьяные Трясины, — которые искусно обозначались тонкими чёрточками, стянутыми к центрам наподобие свернувшихся гусениц, — тонул в их зыбких застывших круговоротах, за которыми уже твёрдым обетованным берегом начинались земли древа-города.
— Добро! — говорит дед. — Когда отправляемся?
— Как допьём. — Кивает Ярослав на дубовый жбан.
— Ага, значит, с утра. — И поглаживает разноцветные клубки, уродливый самородок, асбестовый рулон.
Что за Древелег? Что за дивный древо-град такой? И что за нужда такая поторопила Ярослава из его родных краёв?
И пока наши герои, числом три: Ярослав, дед Батяй, внук его Осинь, — едут, дремля, под доутренними небесами в телеге, запряжённой пятёркой крепких лошадок, пора порассказать кое-что о Древелеге.
Так, бывало, глаголал о нём Батяй, окружённый местным народцем в городском кабаке «На седьмом холме»:
— А ведь город-то нерукотворный, не самодельный никем, ничем не устроенный, но вызревший сам по себе из дубового семяни. Как из яйца — заложён в землю, взогрет солнцем, вспоён звёздной капелью, лунными приливами, туманным…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: