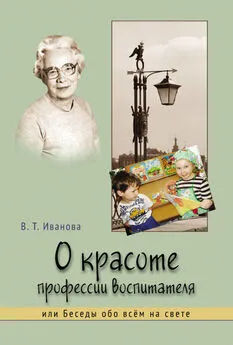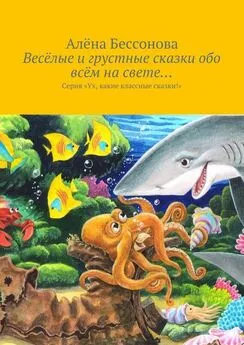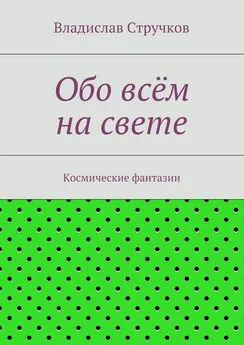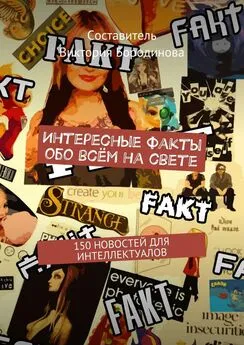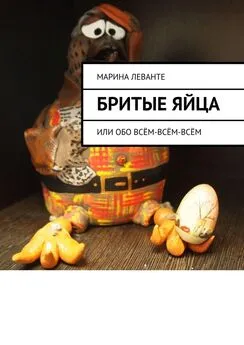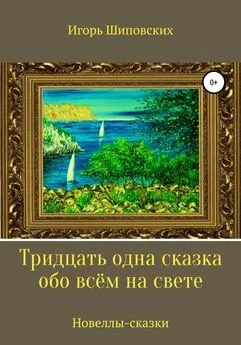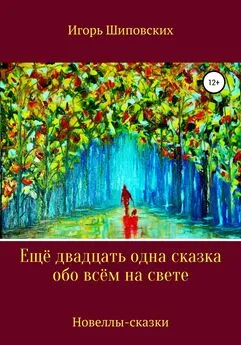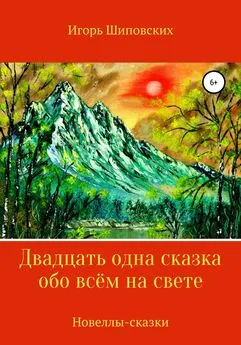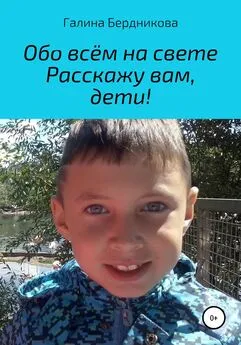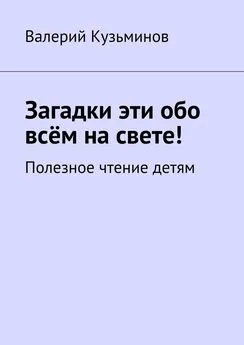Валентина Иванова - О красоте профессии воспитателя, или Беседы обо всём на свете
- Название:О красоте профессии воспитателя, или Беседы обо всём на свете
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2016
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-98368-114-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валентина Иванова - О красоте профессии воспитателя, или Беседы обо всём на свете краткое содержание
В блокадном Ленинграде все дети, ходившие в детские сады, остались живы. В чём был секрет «блокадной» дошкольной педагогики? Что произошло с детскими садами потом? Как сегодня может складываться радостная судьба и детей, и взрослых в детском саду?
Эта книга составлена на основе бесед с Валентиной Тарасовной о тайных законах профессии воспитателя детского сада и её собственных дневниковых записей разных лет.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
О красоте профессии воспитателя, или Беседы обо всём на свете - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
А весной 42-го, после самой страшной зимы в Ленинграде стали открывать детские сады. Но сначала объявили курсы подготовки воспитателей. И я решила пойти: всё-таки я собиралась быть преподавателем, училась на историческом факультете, а здесь тоже что-то близкое. Хорошо, историей займусь потом, когда закончится война – а сейчас надо же где-то работать.
Курсы проводили очень серьёзно и отбирали туда строго, несколько недель читали большой ряд педагогических дисциплин. Потом заставили сдать экзамены и допустили в сады только того, кто сдал. Таким удивительно серьёзным по нынешним меркам было отношение к детским садам. А ведь только-только завершалась самая суровая блокадная зима.
Эти курсы оказались единственным моим официальным педагогическим образованием. Мы часто смеёмся, что такой уж необразованный я человек. Нет высшего, нет даже среднего специального. Какие-то курсы в войну…
Блокадные дети
И вот я закончила курсы и начала работать. Я вспоминаю детей, которые приходили той весной.
Они пережили жуткие месяцы. Они были страшно истощённые и страшно заторможенные. И огромные глаза. Откроет глазищи, уставится и будет сидеть, не шевелясь. Ты к нему и так, и так, а он, если спросит, то только об одном: «А скоро есть будем?» С чем бы ты ни обращался.
Этим, во-первых, и отличались блокадные дети: абсолютное равнодушие к окружающему. Огромные глаза уставлены куда-то и полное молчание. И вот такое движение пальчиками, когда садимся за стол – собирать все крошки. Он ест – но ещё всё время волнуется, что может больше не получить. Волнение, неуверенность. Он переспрашивает: а вдруг этого больше не случится?
И второе – кого-то не хватает рядом, и ребёнок всё время чувствует, что можно навсегда лишиться последних близких людей. Например, приходит мама (которую ты долго-долго ждал) и всё время плачет, что не получает писем, и, наверное, муж погиб. Ребёнок слышит, что папа погиб – папы больше не будет. И это нервное напряжение затормаживает, замораживает в нём всё.
А мама-то заглядывала раз в неделю, а то и раз в три недели. Мамы работали на казарменном положении. Детский сад – он только по названию, по зданию, по воспитателям. А по сути – детский дом.
В блокадном Ленинграде все мамы работали без выходных дней. Легко ли маме брать ребёнка домой, если там не работал ни туалет, ни водопровод? Хватило бы ей сил дойти пешком от завода до детского сада, взять ребёнка и с ним добраться до дома?.. Причём многие дети даже 5–6 лет перестали ходить. А ещё по пути можно было попасть под артобстрел и воздушную тревогу и потому не успеть дойти домой до комендантского часа…
Потому-то дети и жили в детском саду, а мамы приходили в лучшем случае раз в неделю вечером.
Каждый ребёнок чувствовал эту утрату родителей. И папы нет – и, может быть, не придёт. И мамы нет – сегодня зашла, и, может быть, больше не придёт.
Надо было чем-то детей выводить из этого крайне напряжённого состояния, из постоянного ужаса, из неуверенности в возможность чего-то хорошего.
Глаза, письмо и кукла
И понимаете, один ребёнок хоть как-то шевелится, какую-нибудь игрушку ему дашь, он хоть чуть-чуть выходит из состояния этой совершенной неподвижности. А другой…
Я никогда не забуду одну девочку четырёх лет, её звали Олей. Мамина тревога ей особенно передавалась. Оля не разговаривала совсем, вся была словно сжавшаяся в кулачок. Глазищи огромные, сама худенькая, и ей ничего не надо. А мама при редких встречах говорит, что давно нет писем от мужа, с ним что-то случилось… Похоже, девочке ещё передаётся и беспокойство: «Что-то случилось с папой…» Как тут вывести из этого состояния?
Садик наш располагался на Расстанной улице. Длинное здание: половина – детский сад, половина военная часть. Я пришла к военным и сказала: «Я написала письмо от имени папы. Очень вас прошу: придите и скажите, что вы с фронта и принесли от папы письмо». Один солдат согласился.
А из дома я принесла куклу. У меня была кукла, большая, старинная, длинные косы, фарфоровая головка. Отец рассказывал, что эту куклу ему подарила балерина, которую он выручил в другую голодную эпоху – в гражданскую войну поделился привезённой из деревни картошкой.
И вот наш солдат принёс письмо и куклу – сказал, что от папы. Мы перед всеми прочитали это письмо. Я обращаюсь к девочке: «Олечка, это твой папа прислал тебе куклу. И сказал, чтобы ты её назвала. И мы будем писать папе письмо, и ты ему напишешь, что у тебя теперь есть кукла». И Оля спрашивает: «Папа?» И сразу называет мне эту куклу: «Маша».
Она была настолько взволнована этой куклой! Она её взяла – и, видимо, разорвалась та цепь, которую мама всё время выстраивала: «Что с папой, папа погиб, как же без него…» А тут кукла от папы, и папа сразу стал, видимо, таким, как до войны, таким, как она его помнила. Папа, наверное, был очень жизнерадостным, я так поняла.
И Оля заговорила, и мы написали письмо.
Рассеивание страха
Это один ребёнок. А сколько таких блокадных детей, которые ни говорить, ни двигаться не хотели? И было видно, что к каждому необходимо найти свой ключ.
У меня была опытная сменщица, долго работавшая в детском саду и до войны. Она многое и объясняла.
Я ей жалуюсь: «Вот с Олей это получилось, а с Юрой – никак». – «А ты хочешь по одной дороге к каждому прийти? Ничего не выйдет, ищи к каждому свою тропинку. К каждому надо подойти, один на другого не похож!» – «Да как же его узнать, какой он?» – «А так вот: поговоришь, да и узнаешь». Она меня и учила первым шагам в этом личном общении с ребёнком.
Те трудные условия на всю жизнь приучили меня задумываться над тем, почему ребёнок так себя ведёт, а не иначе – и что я должна сделать, какой к нему особый ключик искать.
Каждый по-своему переживал расставание с родителями. Но оберегать от страха надо было всех. Как-то рассеивать страх, чтобы каждый ребёнок поверил, что его бедствия кончатся хорошим, а не плохим.
Про взаимоотношения детей сначала и говорить не приходилось. Дети совсем не общались. Он сидит на месте до тех пор, пока ты его с места не стронешь. Кто-то, может, и рад бы затеять ссору – но у него нет сил.
Любой выглядел так, что не сегодня-завтра на тот свет уйдёт. Даже еда оказывалась особым риском. Если ты ребёнка вовремя не придержишь во время еды… Я ведь не могу ему прямо сказать, мол, не торопись. Он это примет как запрещение есть, будет только хуже. Надо суметь чем-то отвлечь: «А у тебя какой кусочек? А у тебя корочка чёрная или коричневая?» Вот он уже немножко и задержался.
Приходили милиционеры. Смотрели, какие куски хлеба лежат на тарелках у детей. Один спросил: «А как вы делите горбушки?» Горбушка всё-таки больше, чем обычный кусок. Я ответила как есть: мы их выдаём по очереди. И дети подтвердили, сказали, что да, по очереди.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: