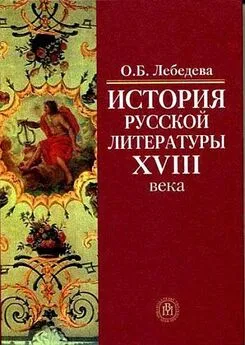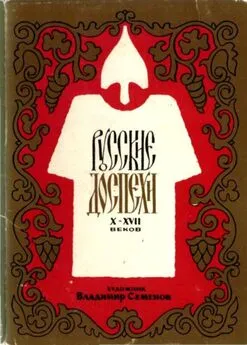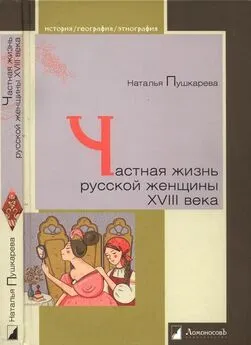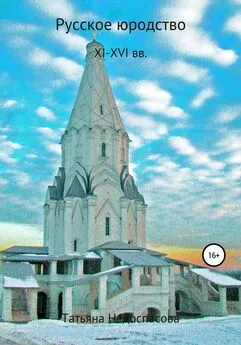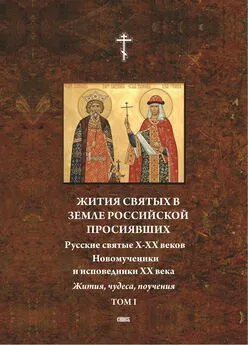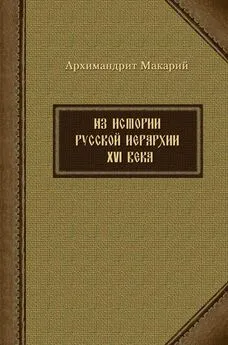Шамма Шахадат - Искусство жизни: Жизнь как предмет эстетического отношения в русской культуре XVI–XX веков
- Название:Искусство жизни: Жизнь как предмет эстетического отношения в русской культуре XVI–XX веков
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0816-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Шамма Шахадат - Искусство жизни: Жизнь как предмет эстетического отношения в русской культуре XVI–XX веков краткое содержание
Искусство жизни: Жизнь как предмет эстетического отношения в русской культуре XVI–XX веков - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
425
В качестве параллельного культурного события, так же вызвавшего революцию и преобразование знаковой системы, следует указать на реформы Петра I (понимание петровских реформ и революции 1917 года рассматриваются и в самой русской культуре как события, находящиеся на одной линии исторического развития, например в сочинениях национал-большевистского толка). Панченко описывает процесс утверждения нового порядка знаков на примере новых титулов и особенно новых праздников, включенных в календарь с 1 января 1700 года (1984, 118 – 130). Утверждение нового дискурса влечет за собой, согласно Панченко, семиотическое перенасыщение, возрастание знаковости (Там же, 129). То же происходит и в «Мандате»: картина, которую Надежда Петровна хочет повесить у себя дома, потому что ей нравится рама и глубокомысленное содержание, получает в условиях постреволюционной жизни новое толкование: «Павел Сергеевич: Нет, вы мне все-таки скажите, мама, что, по-вашему, есть картина? – Надежда Петровна: Столовался у нас в старое время, Павлуша, какой-то почтовый чиновник, так вот он всегда говорил: “Поймите, Надежда Петровна, картина не что иное, как крик души, наслаждение органа”. – Павел Сергеевич: Может быть, все это так раньше и было, а только теперь картина не что иное, как орудие пропаганды» (Эрдман, 1976, 14).
426
В своей инаугурационной лекции в Collège de France, озаглавленной «Порядок дискурса» (1992), Фуко анализирует различные механизмы контроля и исключения. Он проводит различие между внешними механизмами исключения (запрет, экстрадиция безумия, воля к истине), внутренними механизмами (принципы классификации и распределения, призванные обуздать событие и случай: комментарий, автор, дисциплины) и ограничением субъектов речи (ритуал, тайна, доктрина, воспитание). Для нашей проблематики важна именно «воля к истине», в которой Фуко раскрывает историческую обусловленность.
427
К этому выводу подводит медиально-социологическое определение власти, рассматривающее ее как механизм редукции сложности (см. выше, Fink-Eitel), чему соответствуют, в частности, идеология и эстетика сталинизма с их редукционистской картиной мира. О редукции как эстетической стратегии эпохи сталинизма см.: Sasse / Schramm, 1997.
428
Финк-Эйтель называет страх, обусловленный властью, «аффективной антиципацией» (Fink-Eitel, 1992, 52); под властью он подразумевает не столько реальный, сколько потенциальный феномен: власть есть потенциальное принуждение (43); «власть верифицируется свидетельством обусловленных властью нереализованных альтернативных действий со стороны подвластных» (40); власть может воздействовать как только способность воздействия (41).
429
Например, вполне абсурдное утверждение Валериана Олимповича: «Французы – это единственные русские патриоты» (Эрдман, 1976, 76 и далее), намекающее на франкофильство XIX века; или пенетрантное повторение обращения «ваше сиятельство» (Там же, 68) в эпоху, когда дворянство отменено и находится под запретом.
430
Любовная перебранка между Настей и Иваном Ивановичем представляет собой яркий пример идеологизации языка в условиях новой власти, поскольку Настя не маркирует свои высказывания как фикцию, а выдает их за реальность: «Иван Иванович: Поверьте, Анастасия Николаевна, что вы проникали мне через усы в самое сердце. – Настя: Милорд, я никогда не говорила, что люблю вас, вы забываетесь» (Эрдман, 1976, 34).
431
Применительно к драме Эрдмана «Самоубийца» Кошмаль отмечает значительно более светлый финал, так как происходит циклическое преодоление смерти языка благодаря будущему возрождению слова, на которое указывает множество сексуальных и эротических мотивов, намеков на смерть и плодовитость (Koschmal, 1993a, 215 и далее). Как показал Кошмаль, эта драма отсылает к мотиву радостной гибели в «Смерти Тарелкина» Сухово-Кобылина (239) и, следовательно, к его фиктивной смерти, связанной с темой воскресения. В «Мандате» подобное утопическое решение отсутствует.
432
Ср. замечание Гройса о лозунгах и плакатах советской эпохи: «Единственное, что имело значение, это их физическое присутствие, сам по себе тот факт, что они существуют – и тем самым обозначают определенное пространство как пространство советское» (Groys, 1995, 214).
433
См. у Уоррела, реконструировавшего постановку: «Складывалось впечатление, что взяточничество представлено как образ жизни, как главное в жизни царской России, и вся царская Россия есть лишь гигантский коррупционный механизм» (Worrall, 1972, 90).
434
В своих заметках к «Ревизору» Мейерхольд несколько раз возвращается к постановке «Мандата» (Мейерхольд, 1968, 110, 114).
435
Херта Шмид выдвигает тезис о «стратегии удвоенного текста» у Мейерхольда (Schmid, 1994, 354 и далее) и тем самым вносит в интерпретацию еще один аспект: инсценировка в качестве двойного текста включает в себя и Россию Гоголя, и советскую современность Мейерхольда. Это позволяет показать, как Мейерхольд изнутри остраняет и подрывает кажущийся реализм, показывая отображаемую действительность в дополнительной перспективе. В этом отношении «весь Гоголь» – это одновременно и «вся Россия» (в том числе и советская).
436
По этому вопросу Мейерхольд и Белый расходятся в трактовке Хлестакова; Белый видит в его образе воплощение лжи, тогда как Мейерхольд подчеркивает социальный контекст. Сам Белый в рецензии 1927 года не видит никакого противоречия, приписывая Мейерхольду свою интерпретацию (см. выше).
437
Сьюзи Франк, опираясь на высказывания Гоголя, полагает, что Гоголь создает «высокую» комедию, которая в качестве «высокого жанра» равна трагедии или даже ее превосходит (S. Frank, 1999, 281 и далее).
438
Мейерхольд сомневается в том, что Хлестаков сам не замечает, что лжет, и приписывает ему множество других грехов (1993, 71), что придает образу Хлестакова демонические черты. Эта интерпретация восходит, с одной стороны, к Мережковскому, с другой – к Сухово-Кобылину с его бюрократическим адом. Тем самым точка зрения Мейерхольда значительно отличается от таковой Белого, который, однако, в своей восторженной рецензии этого, кажется, не замечает.
439
«Гоголь вычеркивал часто не сам – доподлинно известно, что цензоры времен Николая I часто просто смягчали или даже уничтожали отдельные выражения, которые казались им нескромными, оскорбляющими целомудрие или вообще неприменимыми в разговоре действующих лиц. Ведь вы, товарищ, представляете себе, какая аудитория была тогда в этом самом Александринском театре, какие здесь тузы сидели, какие расшитые мундиры, какие туалеты видело это замечательное здание?! Естественно, что Гоголь трясся перед этой публикой и начинал просматривать свой текст с ее точки зрения и с точки зрения столкновения с цензурой. Гоголь хорошо знал Третье отделение – да разве же он дурак, чтобы потащить свое произведение в печать, не сговорившись прежде со своими более опытными приятелями?» (Мейерхольд, 1986, 144).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: