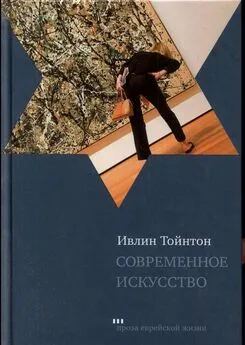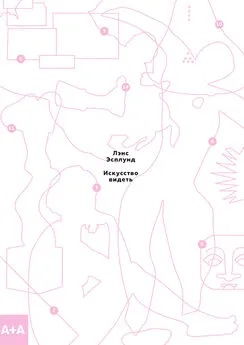Александр Боровский - Как-то раз Зевксис с Паррасием… Современное искусство: практические наблюдения
- Название:Как-то раз Зевксис с Паррасием… Современное искусство: практические наблюдения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентЦентрполиграф ОООb9165dc7-8719-11e6-a11d-0cc47a5203ba
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-227-07198-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Боровский - Как-то раз Зевксис с Паррасием… Современное искусство: практические наблюдения краткое содержание
Книга «Как-то раз Зевксис с Паррасием…» объединяет статьи и эссе, написанные в «эстетическом режиме» (Жак Рансьер). В их фокусе – собственно поэтика искусства, персоналистские и «направленческие» картины мира, реализация индивидуальных творческих интенций. Как критик и интерпретатор, автор обладает редким даром вживания в конкретику художественного процесса. Его конек – портретная эссеистика. «Словоохотливый взгляд» (Бланден Кригель) автора побуждает зрителя к самостоятельной навигации в пространстве современного искусства.
Как-то раз Зевксис с Паррасием… Современное искусство: практические наблюдения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вообще говоря, сатирический текст фарфора 1920–1930-х годов вполне вписывается в другой, более обширный текст.
В своих станковых сериях и журнальных рисунках начала 1920-х В. Лебедев, В. Козлинский, А. Радаков, К. Рудаков, Г. Эфрос, Н. Радлов, Д. Митрохин – все как один – принялись обличать проглянувшие родовые пятна капитализма: проституток, нэпманш, модниц-жен ответственных работников и пр. [89]Отдельная тема – шпана. Здесь, как это ни странно, проявился своеобразный эстетизм – аномальный облик, агрессивная пластика, жестовая сила (Ю. Тынянов) асоциального элемента, переполнившего советскую улицу после Гражданской войны, интересовала художников с, как сказали бы сегодня, социально-антропологической стороны. Женское направление художнического критицизма обладало своей особенностью. Конечно, главный вектор здесь был обличительным. Однако обличение это было чрезвычайно аппетитным, вкусным, я бы сказал, игривым: казалось, художники вновь открывали для себя прелести женской фигуры, пикантность поз и туалетов, откровенность ситуаций. Рождался единый связный текст, в какой-то степени преодолевающий изначально критическую установку и в целом посвященный женскому, элегантному, живому. Как уже говорилось, фарфор вполне вписывается в этот текст. И все же главным направлением развития советского фарфора во второй половине 1920–1930-х годах было другое. В его основе лежала понятная и вполне директивная идея фиксации советской современности. Компенсаторный фактор остается: фарфор делает упор на праздничной, героико-победительной и эталонной сторонах советской жизни, символически восполняя реальные трудности и беды (разумеется, какие-то коллективные прагматичные интересы эпохи не даются художнику в виде директивной программы, расписанной подетально. Такие работы собрания Петра Авена, как хотя бы «Революционный Петроград» Т. Безпаловой-Михалевой, «Первомай» Л. Блак, северные темы И. Ризнича – художников второго поколения, выращенных уже, как тогда говорили, целиком на советском воздухе, искренне оптимистичны. Просто в советском воздухе витали новые интересы). Зато прогностический фактор иссякает вместе с лозунговым пафосом мировой революции, вовлечения масс в борьбу, приобщения к политике и пр. Да и не дело художников прогнозировать историю: это сфера большой политики, подающей сигналы посредством уже созданных государственных институций.
Время индивидуальных мифологий Русского Должного (по типу щекотихинской) прошло. Индивидуальная архаика, личный Русский Космос – все это в прошлом: Должное спускается сверху не только как идеологический эталон, но и как визуальный канон. Архаические пласты человеческого мышления нельзя было отдавать фантазмам художниковиндивидуалистов. Они были апроприированы для властных манипуляций: для определенного уровня сознания символ власти и сама власть – тождественны, равно как картина процветания и процветание как таковое.
(В коллекции Петра Авена немало большеформатных – на блюдах и вазах – портретов тогдашних представителей околосталинской верхушки. Любопытно, что здесь нет уже альтмановско-анненковских динамических изломов формы, характерных для энергетически заряженных, действительно агитационных вождистских портретов революционной и непосредственно послереволюционной поры. Они символизировали атакующий характер вождей революции и идей революции. Теперь изображение ценно цельностью и жизнеподобием: мастера-разрисовщики ЛФЗ имитируют документальность фотопортрета кропотливой работой кисточкой. Меняется – в рамках символической – функция портретов. Она становится более архаической, почти тотемной: портрет тождественен присутствию самого персонификатора власти.)
Ресурс фантазийности
Что же делать с индивидуальными мифологиями? Власть не интересует, как представляет художник, скажем, Русский, он же Революционный, Золотой век. Но она рачительна, и ресурс фантазийности, сказочности, полета воображения было бы неразумно не использовать. Тем более что представления об адресате уже состоялись: большой сегмент производства отводился продажам «на Запад». Итак, социальные и миростроительные коннотации (амбиции) отсекаются. «Очищенное» от социальных аллюзий мифологическое канализируется в пространство сказки.
Кстати, до сих пор не исследовался сам момент появления такой обильной сказочности в фарфоре. Не говоря уже о «старых» сказочниках поколения Щекотихиной, к сказке (как правило, русской и восточной или «внелитературной», авторской, вроде миражных образов самопогруженного великого визионера А. Воробьевского), обратились почти все новоприбывшие примерно к середине 1920-х (и несколько позже) на завод художники: Т. Безпалова-Михалева, М. Мох, Л. Блак, тот же А. Воробьевский… Что это было – проявление внутренней индивидуальной потребности в сказочном самовыражении? Некий коллективный ответ на невысказанный заказ: утилизация мифологического в формах (сейчас сказали бы – формате), функционально оправданных внешним рынком? Или (если прибавить к сказке анималистику И. Ризнича) своего рода эскапизм, неманифестированный уход от лобовых заданий официоза? (Полный уход не удавался никому. Все эти мастера в разной мере не смогли избежать официальных заказов. В особенности подводил наличный изобразительный ресурс И. Ризнича, великого изобразителя звериного мира: способность изобразить все что угодно, от корабля и до плотины, преследовала его всю жизнь в виде государственных «датских» заказов (так в просторечье называли задания, которые надо было выполнить к определенным датам: съездов, советских годовщин, юбилеев ушедших и живущих партийных деятелей и пр.).
Восточный сюжет
Еще один «фарфоровый сюжет» требует постановки более общих вопросов культурологического порядка, благо коллекция к этому располагает. А именно – восточная тема нашего фарфора. И не столько сама по себе – скорее как часть проявления некоей стилевой общности, проявившейся пусть не стабильно, но вполне отчетливо в артпрактике второй половины 1920–1930-х годов. Эта стилевая общность – ар-деко. Европейское ар-деко замешено на североафриканском и восточном примитиве. Во времена авангарда примитив был фактором формообразующим. В период ар-деко – колористическим (он придавал колоризму особую остроту, как пряность – блюду), ритмизующим и мироощущенческим. У советского искусства был свой ориентализм, и он выполнял сходные задачи.
Но начнем с другого. Восточная тема интересует русский фарфор с XVIII века. Сначала в плане экзотически сюжетном. XIX век сохраняет вкус к пряной восточной сюжетике. Но по мере развития колониальной политики возникает тема «нашего Востока», постепенно восточные народы становятся предметом «визуального народоведения империи» (см. выше). На Восток работает агитационный фарфор и в вербально-лозунговой, и в изобразительной ипостасях (О. Татевосян. Тарелка «К III Конгрессу Коминтерна». Дулевский завод, 1921). В этом же году и по тому же поводу Н. Данько [90]создает «Пробуждающийся Восток» – смелый и вызывающе гедонистический образ (девушка в шальварах, но с обнаженной грудью читает газету). Он ближе типажу гурий и турчанок частных заводов – продукции, выполнявшей в собиравшей ее помещичьей среде, дичавшей от деревенской изоляции, эротическую роль. Хотя раскованность могла идти и от настроений времени: марксистского феминизма А. Коллонтай и Л. Рейснер. За последующие полтора с лишком десятка лет Данько с дюжину раз обращается к разному Востоку – советскому и близлежащему (так и неясно – в «Персиянке с виноградом» модель – жительница РСФСР? Благо, на Кавказе было вдосталь своих персов. Или это привет труженикам зарубежного Востока? Сказанное относится и к персам Т. Давтяна («Перс, пьющий чай»). И к «Афганке» Е. Трипольской (ее «Амбал», похоже, «наш»). Если добавить сюда жанрово-этнографическую скульптуру О. Мануйловой и еще работы пары авторов, получится внушительный ряд. Здесь также играли роль и личные влечения, и коллективные интересы эпохи. Последние были просты. Закрепить «свои» народы Востока и в сознании всего населения СССР, и в массовом сознании самих этих народов. В этом плане само внимание к их быту и типажу со стороны художников метрополии было политически полезным. Равно как и интерес к трудящимся Востока. Могло ли быть иначе, если «Обращение Председателя Совета Народных Комиссаров В. И. Ленина и Народного Комиссара по Делам Национальностей И. В. Сталина ко всем трудящимся мусульманам России и Востока» было подписано уже 20 ноября (3 декабря) 1917 года: «Мусульмане Востока, персы и турки, арабы и индусы, все те, головами и имуществом которых, свободой и родиной которых сотни лет торговали алчные хищники Европы, все те, страны которых хотят доделить начавшие войну грабители!»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


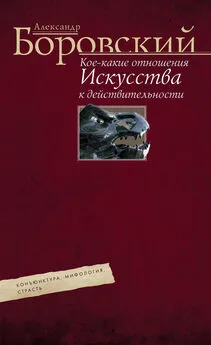
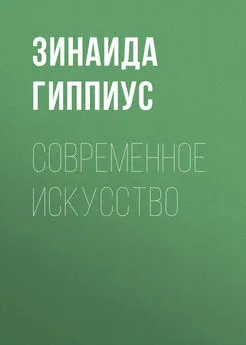
![Мэри Габриэль - Женщины Девятой улицы. Том 1 [Ли Краснер, Элен де Кунинг, Грейс Хартиган, Джоан Митчелл и Хелен Франкенталер: пять художниц и движение, изменившее современное искусство]](/books/1067927/meri-gabriel-zhenchiny-devyatoj-ulicy-tom-1-li-kra.webp)