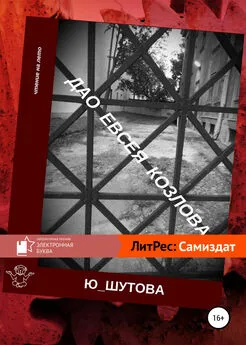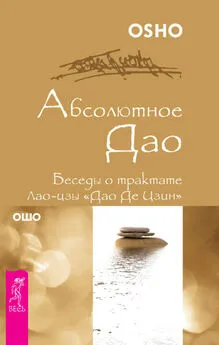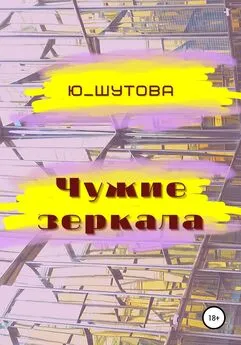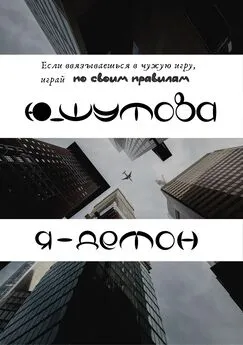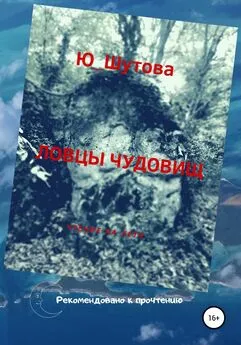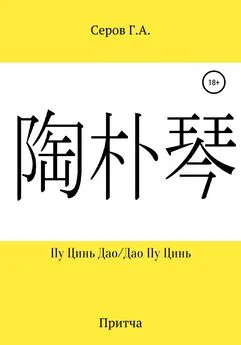Ю_ШУТОВА - Дао Евсея Козлова
- Название:Дао Евсея Козлова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Selfpub.ru (искл)
- Год:2019
- ISBN:978-5-532-07975-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ю_ШУТОВА - Дао Евсея Козлова краткое содержание
Представим ситуацию: на некой свалке обнаруживается чемодан, набитый бумагами, записями, газетными вырезками, рисунками. Среди этого хаоса обнаруживается дневник того, кто жил в Петрограде в самом начале XX века. Неспокойные, мятежные времена! Одно тяжкое потрясение сменяется другим. Первая мировая, народные волнения, стачки, крах привычных устоев.
Именно тогда и жил Евсей Козлов, обыкновенный горожанин, решивший однажды начать вести дневник, который современный читатель сейчас держит в руках. Вряд ли мог представить господин Козлов, с какими людьми столкнется, в каких событиях волей или неволей примет участие, какое интересное наследие оставит для потомков.
Дао Евсея Козлова - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Знаете, кто это? Это Рюрик Ивнев, очень талантливый поэт. Он будет читать свои стихи. Постойте, под каким он номером… – она развернула свою программку, – ах, вот, номер третий. Послушайте его, вы поймете, какой он.
Не могу сказать, что мне так уж приятно было слушать ее восторженную оценку этого Рюрика. Придумают же себе имена, уверен, что на самом деле он какой-нибудь Петр или вообще Фаддей. Но хочет называться ни много, ни мало Рюриком. Может, даже чувствует себя Рюриком. Гордо несет голову, увенчанную призрачным венцом.
– Скажите, Жозефина Матвеевна, «наши» – это кто?
– А-а, я же вам не объяснила, извините. Вы слышали про кабаре «Бродячая собака»?
На мой отрицательный ответ она несколько удивилась, будто знать о нем должен каждый житель столицы. Оказалось, это был такой подвал, кабачок, где собирались поэты, художники, музыканты, в общем, все те, кто причислял себя к настоящей богеме. Они сами там все оформили, кто-то раскрасил стены, кто-то изготовил деревянную люстру, ну и так далее. Себя они, эти самые «наши» величали «собачниками», дескать, доля артиста весьма похожа на собачью бродяжью жизнь, а прочую «чистую» публику, что собиралась поглазеть на знаменитостей, звали «фармацевтами», мне не очень понятно почему, возможно, кто-то посчитал, что фармацевт-аптекарь – это воплощение бесталанности, бесчувственности и безвкусия. Теперь уж этот подвал закрыли за нелегальную продажу спиртного, знакомая тема, много трактиров и ресторанов закрывают, но те, что побогаче, открываются вновь и вновь. А этот, артистический, затух. Вот и Жозефина бывала там, правда, как она говорит с сожалением, недолго, всего пару месяцев («Но это была целая жизнь, понимаете, настоящая, насыщенная, без повседневного притворства, скуки, вымученных пустых разговоров и бумажных улыбок»), а там и все, прикрыли лавочку. Оказывается, она не только поет, но и сама пишет стихи, то есть песни – и стихи, и мелодию к ним.
Пока мы беседовали, концерт начался. Артисты один за одним выходили в ту дверь, через которую давеча входила к нам хозяйка дома. Дверь оставалась приоткрытой, и через нее доносились до нас голоса, читавшие стихи, пение, музыка и аплодисменты после каждого выступления, не особо громкие, скорее вежливые. И вот Жозефина тоже исчезла за этими вратами. Я не удержался и заглянул за приоткрытую створку. Там был выставлен белый кабинетный рояль, а далее на стульях рядами сидели зрители, человек тридцать или чуть больше, все сплошь господа в мундирах и фраках и дамы в богатых платьях. Интересно, какую сумму выложил каждый из них за этот концерт? Благотворительность – дело дорогое.
Пела Жозефина прекрасно, чистый глубокий голос. Когда она запела «Марсельезу», я увидал, как во втором ряду поднялся один господин, лысый, но с густыми ухоженными усами, и тоже запел. Лицо его показалось мне знакомым, и тут позади меня кто-то, так же подглядывавший в щель, негромко произнес: «Смотрите-ка, Палеолог». И верно, это был французский посланник Морис Палеолог, я видел его портрет в еженедельнике «Летопись войны» в прошлом году, когда еще пристально следил за событиями мировой бойни. Вслед за французом поднялось еще несколько человек, потом еще, а потом поднялись и остальные. Так, стоя, все вместе и допели до конца, а потом аплодировали, и вот тут мне показалось, что не просто из вежливости, что тронуло их что-то, может быть, сам гимн Франции, а может, и голос исполнительницы.
После выступления Жозефины мы сразу уехали. Она снова была в своей шофферской кожанке, совсем другая, наглухо застегнутая, молчаливая, будто опустошенная. Чтобы как-то разбить разделявшее нас молчание, я спросил:
– Вы начали говорить про своего прадеда-француза. Могу ли я услышать продолжение сей повести?
И она рассказала мне эту историю, но теперь уже скупо, короткими фразами, без затей. Вот она. Жозеф де Карабас, оставшись в Твери и разучивая модные танцы с местными барышнями, времени зря не терял и вскоре женился на своей ученице, дочери богатого купца Пелагее Ивановне Чуриловой. Как ее папаша на такой союз согласился, история умалчивает, может, польстился на эфемерное дворянство, не исключено, что самим Жозефом и придуманное, а может, грех покрывал. Но потом ни разу о таком зяте не пожалел. Француз, вдруг откуда ни возьмись проявил недюжинный коммерческий талант и вскоре уже вовсю вел дела вместе с тестем, а как тот состарился и вышел на покой, то уже самостоятельно. Пелагея родила ему трех дочек и двух сыновей. Старшего он определил по коммерческой части, воспитывал из него наследника семейного дела, а младшего Жана Жозефа Анри Де Карабаса десятилетним мальчиком определил в только что открывшийся Новгородский графа Аракчеева кадетский корпус. После окончания курса тот, звавшийся теперь уже Иваном Осиповичем Карбасовым, был переведен в столицу в Дворянский полк для продолжения обучения. Служил в артиллерии, был в Польше, принимал участие в венгерском походе и при взятии Дербецена в 1849 году был легко ранен. Тогда же в этом венгерском городе он встретил артистку-француженку, она играла в труппе местного театра. Роман был бурный и стремительный, как кавалерийский натиск, Иван Осипович едва успел опомниться, а вот он уже в отставке, женат и в должности управляющего семейного предприятия, фабрики пеньковых канатов.
– Так что, судите сами, мы с братом все-таки французы, хоть и не полные, зато дважды, и по прадеду, и по бабушке.
Авто свернуло с Малой Морской в Гороховую и остановилось возле моей подворотни. Пора было прощаться. Но как же не хотелось мне расстаться с ней. И я, недолго думая, предложил проводить даму.
– Послушайте, Жозефина Матвеевна, вы, конечно, подвезли меня до дому, благодарю, но позвольте, я все же провожу вас.
Она улыбнулась:
– Таким образом меня еще не провожали, чтобы на моем авто, и я же за рулем. Ну что ж, извольте.
И мы опять поехали. Но на этот раз ехать оказалось совсем близко, обратно на Малую Морскую, через Исаакиевскую площадь, затем мимо почтамта. Машина остановилась около маленького двухэтажного каменного дома почти в самом конце улицы, за ним был лишь угловой особняк, роскошный, с гербом на скругленном углу под крышей. Далее, на переулке – казармы, сейчас в них расположились кексгольмцы. Оказывается, женщина, которой бредил я вот уже почти год, живет совсем рядом. А ведь я хожу тут чуть ли не каждый день, и вот надо же, не привелось ни разу случайно встретиться. Поистине, неисповедимы пути, нет, не господни, наши, человечьи пути. Надо было так закрутиться жизни, что встретил я Зеботтендорфа, что убил он несчастного доктора, что вышел на меня господин Карбасов, и все это привело меня к ней. А если бы столкнулся я с ней здесь, у Почтамта, или на Конногвардейском, что бы было? Даже если бы узнал ее, осмелился бы подойти? Вряд ли.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: