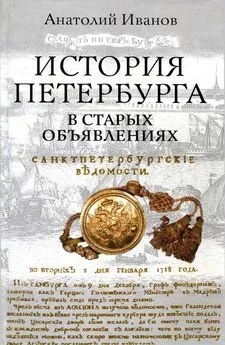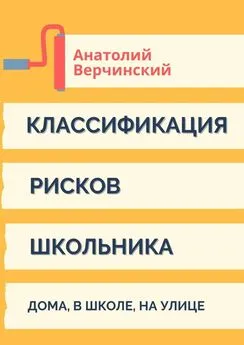Анатолий Иванов - История петербургских особняков. Дома и люди
- Название:История петербургских особняков. Дома и люди
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Центрполиграф ООО
- Год:2018
- ISBN:978-5-227-08282-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Иванов - История петербургских особняков. Дома и люди краткое содержание
История петербургских особняков. Дома и люди - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Ее муж, А. В. Оболенский, обратился к швейцарскому правительству с требованием вернуть ему детей, что и было исполнено. С матерью осталась лишь одна из дочерей, но вскоре умерла. Другая же, Екатерина (ей в ту пору минуло уже пятнадцать лет), успела набраться революционных идей; живя у отца в Петербурге, она вела себя самостоятельно, завела свой круг знакомств и считалась «нигилисткой» – ходила со стрижеными волосами, в очках и носила платье мужского покроя.

С. П. Боткин
Вступив в брак с неким Мордвиновым, Екатерина Алексеевна довольно рано овдовела и в конце 1876 года вышла замуж за выдающего медика Сергея Петровича Боткина (1832–1889). «Молодые» были уже не первой молодости, оба успели овдоветь, у Сергея Петровича к тому же от первого брака осталось шестеро детей, но это не помешало их счастью. Екатерина Алексеевна родила мужу еще шесть дочерей и одного сына, умершего, к большому горю родителей, в пятилетнем возрасте.
Научная и практическая деятельность С. П. Боткина широко известна, менее известны подробности его личной жизни.
Время, свободное от занятий медициной, охотнее всего он посвящал музыке, с увлечением отдаваясь игре на виолончели. Долгое время Сергей Петрович брал уроки у известного виолончелиста. По словам самого Боткина, именно музыка заряжала его необходимой энергией для основной работы. Даже уезжая на лечение куда-нибудь на воды, он не расставался с виолончелью. Однажды случилось так, что встречавшие его с почетом на вокзале во Франценсбаде врачи, не зная знаменитого коллегу в лицо и увидев среди багажа прибывшего Боткина два футляра с виолончелями, решили, что это странствующий музыкант, приехавший с концертами.
Непременным составным элементом городской жизни веселого и общительного Боткина в течение нескольких десятков лет были субботние собрания, начинавшиеся не ранее девяти часов вечера и нередко затягивавшиеся до четырех утра. «На этих субботах, – вспоминал один из друзей Сергея Петровича, – в течение тридцатилетнего их существования успел перебывать чуть ли не весь Петербург, ученый, литературный и артистический…»
Во время таких собраний гости рассаживались за длинным столом и начинались бесконечные рассказы, прерываемые то и дело взрывами смеха. Когда же по воскресным дням все семейство оказывалось в сборе, то Сергей Петрович, «окруженный своими двенадцатью детьми, в возрасте от тридцати лет до годовалого… представлялся истинным патриархом». Дети его обожали, хотя он поддерживал строгую дисциплину и требовал безоговорочного повиновения. Несомненно, в этом сказывалась купеческая закваска Боткина, выходца из старинной династии московских чаеторговцев. Как все сильные люди, он отличался мягким и уживчивым нравом, избегал ссор и не любил праздных споров.
В 1889 году, вынужденный по состоянию здоровья уехать на лечение за границу, С. П. Боткин умирает в Ментоне.
Вдова покойного продает дом на Сергиевской графине Марии Эдуардовне Клейнмихель (1846–1931), богатой петербургской домовладелице, в течение нескольких десятилетий поддерживавшей великосветский салон, где бывали видные государственные деятели и крупные чиновники. Она всегда находилась в курсе всех политических новостей и слухов, перемещений в правительстве и т. д. В. Н. Ламздорф, хорошо знавший графиню, называет ее в своем «Дневнике» особой «весьма предприимчивой во всех отношениях», а также «весьма подвижной и чрезвычайно склонной вращаться в свете».
Эти похвальные качества, а главное – необыкновенная осведомленность во всем, что касалось политики, навлекли на Марию Эдуардовну во время Первой мировой войны подозрения в сотрудничестве с германской разведкой. Было ли так в действительности, сказать трудно, однако мемуары, написанные ею в эмиграции, заставляют усомниться в этом. Как бы там ни было, она не пожалела отдать в 1915 году свою роскошную виллу на Каменном острове под лазарет для раненых солдат.

М. Э. Клейнмихель
М. Э. Клейнмихель недолго владела домом, и в 1894 году он переходит к князю Михаилу Сергеевичу Волконскому, купившему его по выходе в отставку взамен особняка на Гагаринской набережной. К тому времени Михаил Сергеевич, записанный при рождении заводским крестьянином, сын каторжника, лишенного всех прав состояния, стал уже обер-гофмейстером и членом Государственного совета, а до этого в течение двенадцати лет занимал пост товарища министра народного просвещения.

В. М. Волконский
Вместе со старым князем поселились его сыновья – Владимир, унаследовавший дом после смерти отца в 1909 году, и Сергей. Оба брата в разное время занимали высокие государственные должности, но в совершенно различных областях. Владимир Михайлович в последние годы царствования Николая II исполнял обязанности товарища министра, а вернее – министров внутренних дел, их сменилось четверо или пятеро, а Сергей Михайлович в 1899–1901 годах находился на посту директора Императорских театров.
Несмотря на непродолжительность своего директорства, С. М. Волконский успел сделать кое-что полезное: во-первых, привлек к оформлению декораций художников-«мирискусников», в первую очередь Л. Бакста, а во-вторых, осуществил кое-какие новшества в репертуаре, введя на русскую оперную сцену произведения Вагнера.
К сожалению, система фаворитизма, господствовавшая в Императорских театрах, вскоре прервала его деятельность. Из-за пустячного столкновения с Матильдой Кшесинской ему пришлось уйти в отставку, что он и сделал с большим достоинством. Так закончилась театральная карьера Сергея Волконского.

С. М. Волконский
Что же касается политической карьеры его брата, то о ней пишет в своих воспоминаниях тот же Сергей Михайлович: «Николай II хорошо его знал, они в детстве вместе играли; государь звал его «Володя». Но положение становилось все невыносимее. Честность должна была задохнуться или уйти… Брат ушел. Все хорошее в нем оказалось не нужно. Лучшие люди целого поколения оказались не нужны».
Очевидно, эти горькие строки автор относил и к самому себе. Все лучшее в нем тоже оказалось невостребованным, и он вынужден был в 1921 году покинуть родину среди всеобщего хаоса и озверения…
Ныне в бывшем особняке на Сергиевской находится онкологическая больница, и ничто не напоминает больше о людях, живших здесь.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: