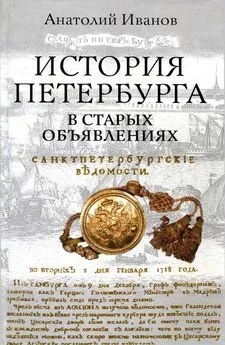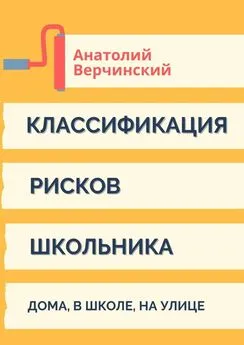Анатолий Иванов - История петербургских особняков. Дома и люди
- Название:История петербургских особняков. Дома и люди
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Центрполиграф ООО
- Год:2018
- ISBN:978-5-227-08282-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Иванов - История петербургских особняков. Дома и люди краткое содержание
История петербургских особняков. Дома и люди - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:

С. В. Панина
От брака с Анастасией Сергеевной Мальцовой (с ее отцом мы встретимся в очерке «В толпе себе подобных») он оставил единственную дочь Софью (1871–1957), последнюю владелицу дома и одновременно последнюю представительницу угасшего рода графов Паниных. Жизнь ее сложилась не совсем обычно. Рано овдовевшая мать вторично вышла замуж за И. И. Петрункевича – видного земского деятеля, позднее одного из лидеров кадетской партии, ближайшего соратника П. Н. Милюкова. Анастасия Сергеевна, считавшаяся в кругу своей родни отъявленной революционеркой, желала воспитать дочь в любви к «трудовому народу». С этой целью она, по выражению А. А. Половцова, «таскала ее по мужицким избам берегов Волги».
Протесты со стороны бабушки, Н. П. Паниной, обратившейся за поддержкой к самому Александру II, ни к чему не привели, и Софью оставили под материнской опекой. Лишь при следующем императоре, Александре III, ее все же отняли от «сумасбродной матери».
В 1890 году Софья Владимировна, считавшаяся самой богатой невестой в России, выходит замуж за сына государственного секретаря А. А. Половцова. При этом вдова В. Н. Панина выразила желание, чтобы к мужу внучки перешли титул и фамилия ее покойного супруга, как то было ей обещано Александром II. Однако Александр III, сильно недолюбливавший Половцова, наотрез отказался исполнить эту просьбу, мотивируя свой отказ «нежеланием ближайших родственников» С. В. Паниной.
Учитывая то, что таковым мог быть сочтен лишь троюродный брат новобрачной князь А. Г. Щербатов, мотивировка не выглядела особенно убедительной, но Половцов все понял и больше не настаивал. С мужем, имевшим гомосексуальные наклонности, графиня, как и следовало ожидать, не сошлась взглядами, и после скандального бракоразводного процесса они расстались, причем Панина вернула себе девичью фамилию и титул.
После смерти бабушки, умершей в 1902 году в более чем преклонном возрасте, Софья Владимировна осталась единственной владелицей огромных панинских богатств, в том числе и дома на Фонтанке. Материнское воспитание не пропало втуне: С. В. Панина разделяла политические воззрения отчима, которого очень уважала, и со временем сама стала членом ЦК партии кадетов.
Общественная деятельность графини Паниной широко известна: она построила Лиговский народный дом, помогала голодающим, на ее средства содержались школы и больницы. Но вот один, казалось бы, незначительный эпизод рисует ее как человека. В одном из имений графини работал в качестве землемера некий молодой человек, замешанный в крестьянских волнениях 1905 года и принятый на эту должность по протекции семейства А. И. Бакунина (племянника известного анархиста), близкого к Паниной.
Работая в имении, молодой человек возглавил Крестьянский союз, а когда тот разгромили, он, опасаясь ареста, решил бежать из России. В роли спасительницы выступила опять-таки Панина. Она лично встретила почти незнакомого ей человека на перроне вокзала, доставила в своем экипаже на заранее приготовленную «конспиративную» квартиру, а на другой день отвезла его на Финляндский вокзал, усадила в поезд до Гельсингфорса и вручила рекомендательные письма к своим шведским друзьям.
После Февральской революции С. В. Панина вошла в состав Временного правительства, занимая посты товарища министра государственного призрения, а затем товарища министра народного просвещения. Арестованная большевиками, но вскоре милостиво выпущенная на свободу в память о прошлых «заслугах перед народом», графиня навсегда покинула родину, жестоко обманутая в своих либеральных чаяниях.
А в бывшие графские хоромы пришел тот самый «народ», за который так ратовала Софья Владимировна, и они зажили совсем иной жизнью, и в этой жизни не было места для графини Паниной – последнего обломка угасшего рода.

Пустырь на Караванной
(Дом № 13 по набережной Фонтанки а дом № 10 по Караванной улице)

С детских лет, то есть с начала 1950-х, помнится мне этот пустырь за дощатым забором рядом с кинотеатром «Родина». Почему-то он всегда меня интересовал; временами оттуда доносился многоголосый лай, – очевидно, устраивались собачьи выставки. Попасть внутрь, за ограду, мне никак не удавалось, а в крошечные щелки (забор сработан на славу!) ничего не разглядишь. Большой пустырь в самом центре города – явление не совсем обычное, поэтому мое любопытство можно понять. Лишь в конце 1980-х в той его части, что выходит на Фонтанку, начали возводить здание киноцентра, но, не докончив, бросили, и до недавних пор оно зияло пустыми глазницами окон, наводя на грустные размышления.
Похоже, что над этим местом тяготеет злой рок: после того как отсюда исчезли два каменных дома, уничтоженных в смутную пору революционной разрухи, участок на долгие десятилетия опустел. Как будто сама земля противилась появлению здесь новых, чуждых ей сооружений. До революции здесь стояли: старинный особняк XVIII века с главным фасадом на набережную (дом № 13) и трехэтажное здание в неоренессансном стиле, выходившее на Караванную (дом № 10). Примечательной особенностью последнего были громадной высоты окна третьего этажа, призванные освещать художественные коллекции владельца – известного дипломата Д. П. Татищева (1767–1845). Построенное в самом начале 1840-х годов, оно предназначалось специально для их размещения.

Б. Патерсен. Набережная Фонтанки у Симеоновского моста. 1790-е гг. Слева – дом Н. А. Толстого
Попробуем проследить историю участка с того момента, как граф Н. А. Толстой, заключив брачный союз с княжной А. И. Барятинской, к началу 1790-х годов выстроил на «порозжем месте», купленном у отставного бригадира Стейнбока, трехэтажный дом с шестиколонным портиком. Он хорошо виден на одной из картин Б. Патерсена того времени.
До самой своей смерти граф умудрился оставить часть участка, обращенную к Караванной, незастроенной, что полицейскими правилами воспрещалось. Подобную же вольность мог позволить себе еще один домовладелец – обер-егермейстер Д. Л. Нарышкин, чей особняк (Фонтанка, 21) находился неподалеку. Оба они были весьма сильны при дворе, и для них, как водится, сделали исключение.
Граф Николай Александрович Толстой (1765–1816), правнук петровского сподвижника П. А. Толстого, имел родственные связи со всеми тогдашними вельможами, поэтому не мудрено, что он пользовался благоволением и Екатерины II, и Павла, и Александра I. При последнем граф, по своей должности обер-гофмаршала, заведовавшего царским столом, находился безотлучно, сопровождая его во всех поездках по России и за границей. Искренне привязанный к императору, он не знал меры в своем обожании и, как отмечает В. Н. Головина, не гнушался даже «низкими услугами», бесчестившими его. Толстой несколько злоупотреблял своей близостью к государю и позволял себе иной раз весьма резкие выходки, зная, что они останутся безнаказанными.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: