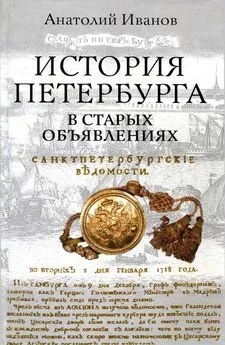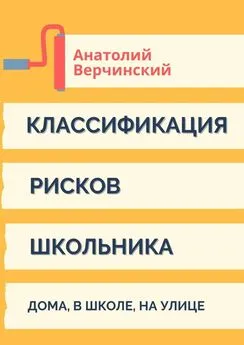Анатолий Иванов - История петербургских особняков. Дома и люди
- Название:История петербургских особняков. Дома и люди
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Центрполиграф ООО
- Год:2018
- ISBN:978-5-227-08282-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Иванов - История петербургских особняков. Дома и люди краткое содержание
История петербургских особняков. Дома и люди - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:

Н. А. Толстой
По словам другого современника, Николай Александрович был «человек без всяких высших видов, даже довольно ограниченный, и сумел достичь величайшей милости средствами, противоположными обыкновенным: вместо коленопреклонения и раболепства, он был груб и дерзок со всеми». Разочарованный в людях, окруженный льстивыми угодниками, Александр оказался податливым на такие уловки, принимая грубость за правдолюбие, а дерзость – за прямоту, чем умело пользовался и другой его любимец, Аракчеев. Несдержанность Толстого отчасти проистекала из его крайней вспыльчивости, порой доходившей до того, что он гонялся за женой с ножом в руках. Тяжелые семейные сцены – не редкость в их доме…
После смерти графа его вдова продала участок коллежской советнице Кайдановой. В 1820-х годах здесь нанимал квартиру Д. П. Татищев, впоследствии купивший полюбившийся ему особняк. Впрочем, в ту пору он не часто бывал в Петербурге: карьера дипломата, начатая им еще при Павле, требовала постоянных и длительных отлучек. За предыдущие двадцать с лишним лет он исполнял обязанности посла в Неаполе и в Испании – его имя стоит почти на всех важнейших международных договорах той эпохи. В 1826 году Татищев занял должность посланника в Вене и пребывал на ней целых пятнадцать лет.
Все это время, помимо основных своих занятий, он с жаром отдавался коллекционированию, преимущественно картин, которые начал собирать еще будучи послом в Неаполе. Не все его приобретения можно назвать удачными: гоняясь за дешевизной, он покупал немало вещей посредственных, но попадались среди них и подлинные шедевры. Особой ценностью отличался так называемый «татищевский складень» – переносной алтарь работы великого нидерландского мастера XV века Яна ван Эйка. Позднее этот шедевр вошел в состав эрмитажной коллекции, а в 1930-х годах его продали одному американскому миллионеру. Наряду с живописью, Дмитрий Павлович собирал также старинное оружие и предметы прикладного искусства.

Д. П. Татищев
В 1841 году он отошел от дел и мог наконец заняться приведением в порядок своих коллекций. Вот что пишет о нем в своих «Записках» М. А. Корф: «Татищев принадлежал к числу умнейших людей нашего века и занимал блестящую ступень в дипломатическом кругу… По переезде в Петербург он не жил открыто, но имел великолепно убранный дом и потом выстроил еще другое здание с каким-то необыкновенным фасадом (на Караванной улице) для помещения в нем своих богатых и разнообразных коллекций, целого музея, собранного им в чужих краях с большими трудами и издержками».
Дом, о котором пишет Корф, возведен по проекту модного в ту пору швейцарского архитектора Б. Симона, поражавшего своей необузданной, прихотливой фантазией; им, к примеру, выполнены роскошные интерьеры близлежащего Шуваловского дворца (Фонтанка, 21), ранее принадлежавшего Нарышкиным.
Наслаждаться своими сокровищами Дмитрию Павловичу мешало быстро ухудшавшееся зрение, к концу жизни он и вовсе ослеп. Не имея детей, Татищев завещал коллекцию Николаю I, и в 1845 году она частично пополнила собою эрмитажное собрание. Наследникам, в числе которых были брат Татищева, постоянно живший в деревне, и многочисленное внебрачное потомство покойного дипломата, достались его дома на Фонтанке и Караванной.
В первом из них в течение десяти лет, с 1859-го по 1869 год, помещался Английский клуб, а впоследствии его арендовали различные увеселительные заведения кафешантанного типа. Во втором же со временем обосновалась гостиница средней руки, и из храма искусства он превратился в обычный доходный дом. Только небывалой высоты окна напоминали о его прежнем, исконном назначении.

Манежная площадь. С открытки 1900-х гг. Второй справа – дом Д. П. Татищева
На открытке 1900-х годов с видом Манежной площади в центре, на заднем плане видна часть бывшего «татищевского музея»; рядом с ним – старый дом с треугольным фронтоном, на месте которого через несколько лет вырастет здание кредитного общества и кинематографа «Сплендид палас». А затем поодаль от него появится унылый пустырь, кинематограф превратится в кинотеатр «Рот фронт», а тот, в свою очередь, переименуют в «Родину», и на пустыре, обнесенном забором, раздастся собачий лай, и какой-то мальчик будет заглядывать в щелку, пытаясь понять, что же там происходит?

Где пролегла Бородинская
(Дома № 86, 88 по набережной Фонтанки)

Порою старый, отошедший в прошлое Петербург кажется мне чем-то вроде мифической Атлантиды, скрывшейся из виду, но не переставшей существовать в неведомых глубинах. Лишь воображение способно проникать в давно исчезнувший мир дворянских усадеб, некогда радовавших глаз зеленью садов с извилистыми тенистыми дорожками, живописными прудами и цветниками…

Дом № 86 по набережной Фонтанки. Современное фото
Проходя или проезжая по задымленному, кишащему автомобилями Загородному проспекту или набережной Фонтанки, трудно представить себе, что одна из таких усадеб находилась на месте пролегающей между ними Бородинской улицы. Там было все: и извилистые аллеи, и цветники, и пруд, находившийся у самого Загородного, или Семеновского, как его иногда называли, проспекта. Сам же усадебный дом с большой овальной клумбой перед ним стоял ближе к Фонтанке, далеко отступя от красной линии.

Дом № 88 по набережной Фонтанки. Современное фото
В январе 1813 года участок, принадлежавший в ту пору наследникам покойного обер-прокурора П. В. Неклюдова, перешел в собственность министра народного просвещения графа А. К. Разумовского (1748–1822). Граф, хотя и принадлежал к «новой аристократии», а может быть, как раз по этой причине, отличался чрезвычайной гордостью и высокомерием; в обществе даже ходил слух, что он считал себя сыном (?!) императрицы Елизаветы Петровны. Очевидно, Алексей Кириллович забыл, что его родитель в не таком уж далеком прошлом пас воловье стадо, а дядюшка, которому род Разумовских обязан своим значением, по выражению Пушкина, «пел с придворными дьячками».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: