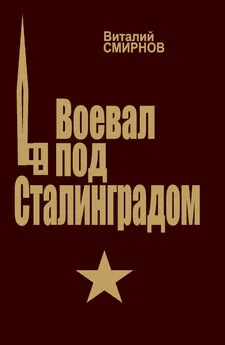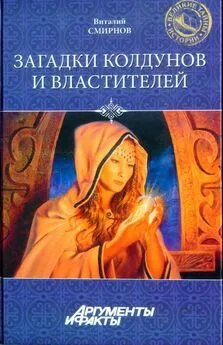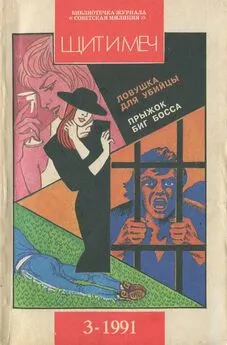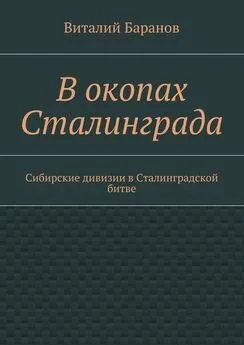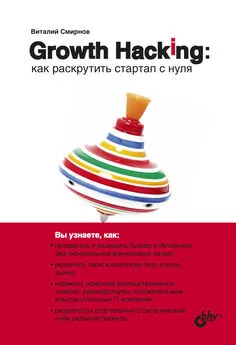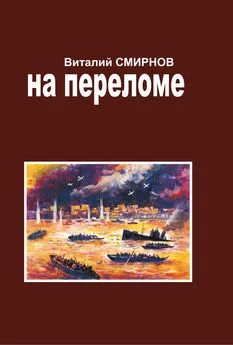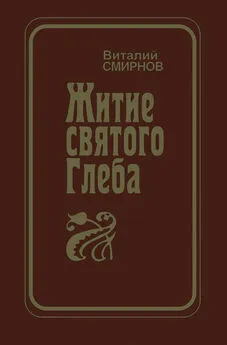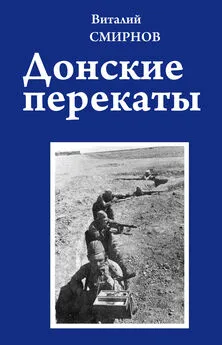Виталий Смирнов - Воевал под Сталинградом
- Название:Воевал под Сталинградом
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2006
- Город:Волгоград
- ISBN:5-9233-0492-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виталий Смирнов - Воевал под Сталинградом краткое содержание
Воевал под Сталинградом - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вот это проявление человеческого в человеке на рубеже между жизнью и смертью и придает, с одной стороны, художественное своеобразие роману, с другой – дает ответ на вопрос о той жизненной силе, которая помогла выстоять Сталинграду. Суть романного конфликта как раз и заключается в проверке нравственных качеств человека в экстремальной ситуации, и выявляется она не только в сюжете в целом, но практически во всех ответвлениях сюжетного действия, во всех его «капиллярах», представляющих собою взаимоотношения различных персонажей, которых в произведении более шестидесяти.
Взять, к примеру, «осевую» для «Горячего снега» линию Дроздовский – Кузнецов, в которой в условиях фронтового быта, военной субординации и конфликта-то не должно быть: младший по должности (Кузнецов) да не ослушается старшего (Дроздовский), хотя они выпорхнули из одного училища и равны по званию. Первая стычка лейтенантов происходит во время привала на марше к огневой позиции. И не просто из-за мелкой зависти Кузнецова к своему более удачливому сокурснику, ставшему командиром батареи, не из строптивого желания не подчиняться вчерашнему однокашнику, с грубой откровенностью демонстрирующему обладание властью. «Запомни, в батарее я командую, – воспитывает Дроздовский Кузнецова после утомительного перехода. – Я!.. Только я! Здесь не училище! Кончилось панибратство! Будешь шебаршиться – плохо для тебя кончится! Церемониться не стану, не намерен!» Этот «непрекословно чеканящий голос поднимал в Кузнецове такое необоримое, глухое сопротивление, как будто все, что делал, говорил, приказывал ему Дроздовский, было упрямой и рассчитанной попыткой напомнить о своей власти и унизить его».
Да, в Дроздовском есть, как говорится, «офицерская косточка». Да, он исполнителен, честолюбив. Но в этом не откажешь и Кузнецову. Есть в обоих и чувство собственного достоинства, которое рождает в Кузнецове острый протест против малейшей попытки унизить его. Но конфликт между ними – в разных принципах отношения к жизни и людям. Правильно подметил Ю. Идашкин, что с образом Кузнецова у писателя «связаны заветные нравственные представления, его самые сокровенные мечты о будущем человечества, его идейно-нравственная и философская проблема борьбы за добро и справедливость» [39] Идашкин Ю. Юрий Бондарев. М., 1987. С. 112–113.
. Те незначительные промашки командира взвода, за которые Дроздовский «выдает» Кузнецову полной мерой, объясняются его непоказным человеколюбием, добрым сердцем, нравственной требовательностью последнего прежде всего к самому себе, а потом к другим.
Вот еще два эпизода, в которых полностью выявилась нравственная сущность юных лейтенантов. Под яростной бомбежкой, обрушившейся на позицию батареи и взвода, Кузнецов вспомнил, что орудия приведены к бою и осколками могут быть выведены из строя прицелы. Он имел полное право приказать в этой ситуации командирам орудий снять панорамы. И формально, по закону войны был бы прав. Но в его душе властвует иной закон – закон нравственного долга, который заставляет Кузнецова, преодолевая «отвратительное бессилие», страх смерти, мчаться, воспользовавшись заходом «юнкерсов» на очередной круг бомбежки, на огневую позицию.
Иначе поступает в сходной ситуации Дроздовский. Чтобы обезвредить фашистскую самоходку, бьющую во фланг орудиям батареи, Дроздовский посылает с гранатами на верную смерть Сергуненкова: затея, никчемность которой была понятна здравому смыслу, но с точки зрения закона войны была вполне объяснима. «…Не выдержал, не смог…» – выдавил из себя Дроздовский, видя «ощутимо-обнаженную, чудовищно-открытую смерть» солдата. И тут Кузнецов, уже не сдерживая себя, кричит в лицо опьяненному бессмысленной властью комбату:
– Не смог? Значит, ты сможешь, комбат? Там, в нише, еще одна граната, слышишь? Последняя. На твоем месте я бы взял гранату – и к самоходке. Сергуненков не смог, ты сможешь! Слышишь!
«Он послал Сергуненкова, имея право приказывать… А я был свидетелем – и на всю жизнь прокляну себя за это!..» – мелькнуло туманно и отдаленно в голове Кузнецова, не до конца осознающего то, что он говорит…»
В образе Кузнецова и близких ему по нравственной позиции персонажей Ю. Бондарев реализует свою концепцию героического, сформулированную им четко и лаконично: «Героизм – это преодоление самого себя, и это самая высокая человечность». «В военных вещах, – разъясняет свою позицию писатель, – мне особенно интересно то, как солдаты на передовой ежечасно и ежедневно преодолевают самих себя. По-моему, это и есть на войне подвиг. Человек, не испытывающий на войне естественные чувства, к которым относится чувство опасности и вероятности смерти, – явление патологическое. Вряд ли это может стать предметом реалистического искусства. Как это ни странно, в моменты смертельной опасности воображение людей становится ярким и обостренным: в своем лихорадочном воображении человек может умереть несколько раз. Подчас это и рождает трусов. Человек, умеющий подавлять чувство страха, способен на каждодневное мужество – и в этом я вижу героическое начало».
Это начало, проявляющееся не только в отношении к тем чувствам, которые посещают человека в момент напряжения всех его физических и нравственных сил, но и в каждодневности его существования, его бытового поведения, его отношения, в частности, к женщине (тут Дроздовский и Кузнецов тоже антиподы, Зоя Елагина могла бы это подтвердить), характерно для всех героев, согретых теплом писательского идеала.
4
Но в этом плане роман «Горячий снег» в значительной мере традиционен как для самого Бондарева, так и для советской литературы о Великой Отечественной войне. Традиционно, хотя, несомненно, совершенствуется и мастерство батальной живописи с выстраданным во фронтовые годы умением писателя найти единственно точную деталь. Но тенденции развития романического жанра в конце 60-х – начале 70-х годов не смогли не сказаться и на «Горячем снеге».
В беседе с польским журналистом в 1974 году Ю. Бондарев обратил внимание на то, что «роман о войне стал теперь более философичен, он выявляет ценность жизни, ценность человека там, где бытие становится лицом к лицу с небытием. В смертельных условиях, на грани «быть или не быть», человеческие чувства обостряются до крайности. Мои книги – это оптимистические трагедии. А трагедия – это очищение, в очищении содержится элемент оптимизма».
Но оптимизм должен был иметь под собою какую-то основу: социально-политическую ли, нравственно-философскую ли, эмпирически-житейскую наконец. В тот период разномыслие было представлено – во всяком случае, в своем внешнем выражении – едва ли не в эмбриональном виде. «Философствовать» было не принято. Философский догмат для всего общества был один – незыблемый, освященный десятилетиями, шаг в сторону от которого воспринимался как идеологический «побег». «Оттепели» кончились. «Заморозки» не стимулировали поиск каких-то новых обоснований того, что свершилось в Великую Отечественную. Поэтому критика сразу же по выходу романа, да и позднее стремилась подчеркнуть идеологическую правоверность автора, показавшего, как «под Сталинградом героически раскрылся дух советского общества, порожденного Октябрём и великими социальными преобразованиями, которые произошли на нашей земле» [40] Михайлов О. Юрий Бондарев. М., 1976. С. 87.
. И хотя в семидесятые и последующие годы обращалось внимание на «глубокое чувство историзма», свойственное Бондареву, историзм этот понимался весьма однонаправленно: все, что свершили герои «Горячего снега», есть поучительный исторический итог случившегося в далеком семнадцатом году. Безусловно, мысль эта в нравственно-философской концепции романа присутствует, но автор не выпячивает ее на первый план, не пытается обосновать и защищать публицистическими средствами. Это значило бы ломиться в открытую дверь. Но историзм Юрия Бондарева, хорошо усвоившего уроки Льва Толстого (а его понимание русского характера неназойливо и емко продемонстрировано, например, в «Войне и мире» батареей Тушина), гораздо шире официально дозволенных трактовок. Писатель учитывает не «краткосрочный» ответ русской истории, а весь исторический опыт русского народа, побеждавшего иноземцев отнюдь не «тем великим «терпением»… за которое поднял тост победной весной сорок пятого года Сталин» [41] Михайлов О. Юрий Бондарев. М., 1976. С. 87.
, как силой, находившей выражение не только в каратаевском смирении, но и в духе деятельного добра. Конфликт между Кузнецовым и Дроздовским «подпитывается» и этим.
Интервал:
Закладка: