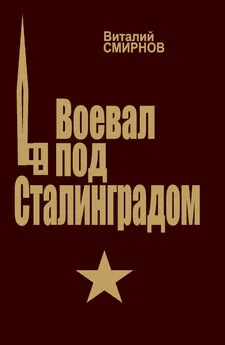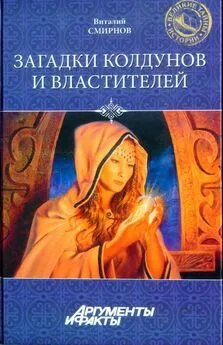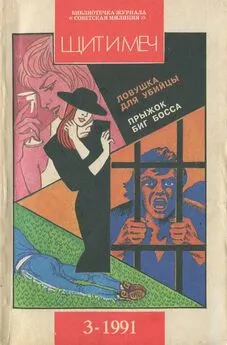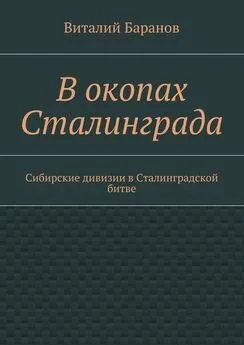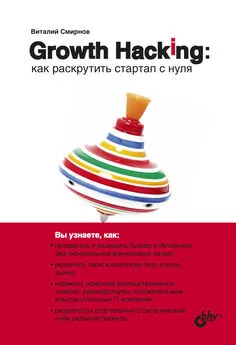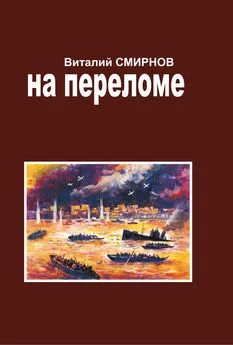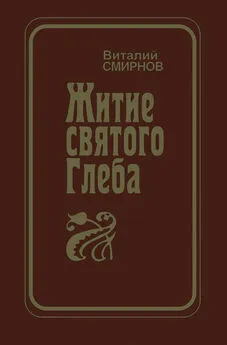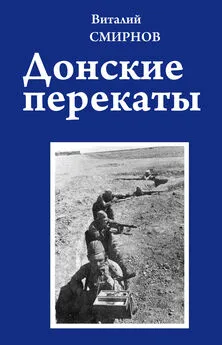Виталий Смирнов - Воевал под Сталинградом
- Название:Воевал под Сталинградом
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2006
- Город:Волгоград
- ISBN:5-9233-0492-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виталий Смирнов - Воевал под Сталинградом краткое содержание
Воевал под Сталинградом - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Ю. Бондарев нащупывает в «Горячем снеге» подходы к решению нравственных проблем не с узко классовых позиций, а с позиций общечеловеческих, о чем во время создания романа говорить было непозволительно. Его оптимизм опирался на чувства доброты, справедливости, сострадания, милосердия, на те христианские заповеди, которые заложены в русском характере и которые реализует в своем жизненном поведении юный лейтенант Кузнецов. И хотя по условиям времени Ю.Бондарев не акцентирует на этом внимание, но «сигналы» читателю подает. Вспомните, как незадолго до гибели Зои Елагиной, в которой повинен и он, Дроздовский, комбат, уже не владея собой, кричит ей: «Вон Кузнецова лучше успокой! Он добренький, и ты добренькая!.. Оба Иисусы Христосы! Только пусть все твои мальчики знают, особенно Кузнецов, ни с кем из них спать не будешь! Не надейся, сестра милосердия!» Здесь даже, казалось бы, бытовое, «должностное» понятие – «сестра милосердия» – обретает символический смысл. Не случайно в портрете санинструктора Зои Елагиной преобладает белый цвет, символизирующий ее непорочность, нравственную чистоту и святость.
Нет, герои бондаревского романа не олицетворяют собою какие-то нравственные постулаты, которые превратили бы произведение в жанр назидательной литературы, в своего рода «поучение». Они рисуются как живые люди, со всеми своими страстями и слабостями, но имеют четкие нравственные ориентиры, которым не изменяют и на пороге смерти. По мнению В. Коробова, своеобразие романа «Горячий снег» заключается в том, что в предшествующих «военных» повестях разнообразие характеров «как бы заслонялось для неискушенного читателя самим движением сюжета, стремительным развертыванием действия, а потому и внимание на несхожести характеров не задерживалось. Более того: только внешне как-то похожие, но внутренне абсолютно разные, герои повестей долго еще, до следующего чтения, оставались в памяти одинаковыми по всем статьям.
В «Горячем снеге» действие развивается не менее стремительно, чем в известных повестях, но уже при первом чтении успеваешь, как говорится, рассмотреть в лицо и пристально если не всех героев романа, то подавляющее большинство их, вплоть до жены командарма Бессонова, которой отведено в книге едва ли два абзаца» [42] Коробов В. Ближние странствия. М., 1982. С. 1617.
.
Этому способствует, я бы сказал, «центростремительный» тип повествования, избранный Ю. Бондаревым в «Горячем снеге». Вспомните, к примеру, солженицынский «Один день Ивана Денисовича», в котором при наличии других персонажей – без этого произведение просто-напросто не смогло бы существовать – все фокусируется на личности главного героя, проявляющей себя на весьма локальном пространстве, что способствует концентрации писательского внимания на внутреннем мире ее. То же свойственно и роману Бондарева, в котором – в сущности – предстает один день из жизни защитников Сталин-града, показанных на «пятачке» огневой позиции. Тут уж им не спрятаться от «увеличительного стекла» писателя, фокусирующего его внимание на мельчайших деталях переживаний героев.
Но «пятачок» этот весьма обманчив. Он – как капля морской воды, в которой содержится все, что есть в море. К нему стягиваются все нити того, что происходит не только в артиллерийском расчете, взводе, батарее, но и в дивизии, армии, фронте, Ставке Верховного Главнокомандования. Принципы изображения действительности в романе сам писатель объяснял так: «…В нем мне хотелось одни и те же события или один и тот же эпизод увидеть глазами и командующего армией, и командира батареи, и глазами солдата, для того чтобы эти одинаковые эпизоды, высвеченные неодинаковыми людьми, вроде бы не совпадали по своей сути, но в то же время несли необходимую психологическую нагрузку. Я попытался это сделать, не преследуя рационалистического расширения круга действия, а в силу общей идеи романа, в силу того, что события и характеры, представленные с разных сторон, что-то дополняют в круг правды о человеке и войне. Повторяю, я не механически и не во имя глобальности расширил рамки романа – я хотел это сделать ради полноты обрисовки лиц и событий».
Благодаря приему многозеркальности Ю. Бондареву удалось раздвинуть рамки «пятачка» до широкой картины – пусть не событийной, но психологической – битвы за Сталинград, показать, как теперь принято говорить, ее судьбоносность для страны. Отличие «Горячего снега» от предшествующих произведений Юрия Бондарева, «новые возможности формы» Ю. Идашкин, например, видит в «эпическом размахе повествования», в «исключительно точно найденной композиции романа», позволяющей свести воедино «великое» и «малое», правду «окопную» и правду «масштабную»: «Замысел, рожденный в Ставке, осуществляется командованием армии и находит конкретное практическое воплощение в действиях одной из дивизий, а в полосе ее обороны – на огневых позициях батареи противотанковых орудий. Такой композиционный план дает автору возможность показать разные «пласты» военной действительности и сочетать крупный пласт изображения солдат и офицеров в лихорадочном напряжении боя с аналитическим художественным исследованием событий, происходящих на «верхних этажах»: в штабах дивизии и армии, в Ставке Верховного Главнокомандующего. Это уже масштаб воссоздания подвига всенародного, войны народной, какой и была Великая Отечественная» [43] Идашкин Ю. Постижение подвига. С. 96.
.
Такое «двойное» художественное зрение, сочетание «мелочности» и «генерализации», как отмечалось исследователем, позволяет писателю добиться «предельной экономичности» повествования, максимальной насыщенности романа действием и мыслью при сокращении (по сравнению с предшествующими повестями) количества персонажей. Удачен оказался и выбор героев, «материализующих» как линию фронтовых «верхов» (Бессонов, Веснин, Деев), так и низов, «окопников» (лейтенант Кузнецов, сан-инструктор Зоя Елагина).
В критике не раз обращалось внимание на неординарность и художественную убедительность образа командарма генерала Бессонова. С особой обстоятельностью он проанализирован в книге О.Михайлова. «Присутствие Бессонова, – отмечает он, – придает всему строю произведения не только широкую масштабность, но и резко усиливает в нем социально-философский характер» [44] Михайлов О. Юрий Бондарев. С. 95.
.
Трудно, правда, согласиться с формулировкой критика, что «в романе как бы два Бессонова». С одной стороны, «официальный, сухой до черствости, говорящий скрипучим, неприятным голосом, безжалостно решающий судьбы людей», зажавший в себе «любое проявление человечности, как ненужной слабости». С другой, так сказать, «внутренний» Бессонов, для которого характерно «мучительное путешествие души, тонко и высоко… музыкально организованной, которую больно царапает, оставляя незаживающие порезы, необходимость постоянной жесткости, необходимость «электризации» подчиненных одним стремлением: выстоять, вытерпеть» [45] Идашкин Ю. Постижение подвига. С. 96.
.
Интервал:
Закладка: