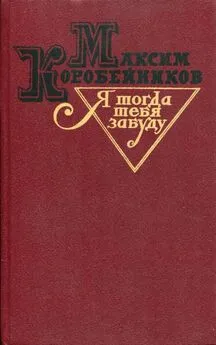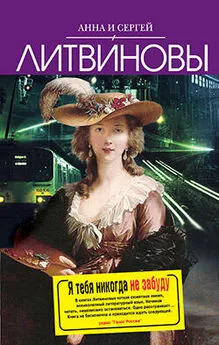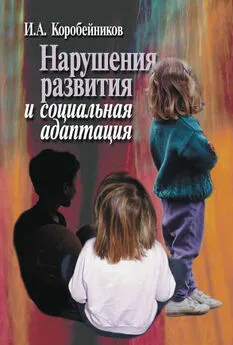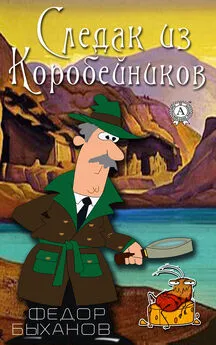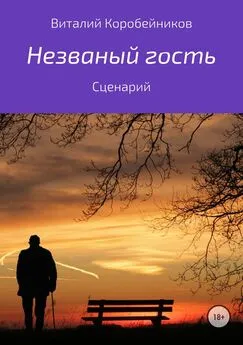Максим Коробейников - Я тогда тебя забуду
- Название:Я тогда тебя забуду
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1988
- Город:Москва
- ISBN:5-265-00489-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Максим Коробейников - Я тогда тебя забуду краткое содержание
Я тогда тебя забуду - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— А ну, говори, что еще натворил?!
Я обезумел от страха. Отец был суров на расправу. И икота прошла.
— Вот как тебя лечить надо, — улыбаясь, сказал отец.
После этого икоты как не бывало.
Часто во время игр я разбивался. Ноги и руки были постоянно содраны, оцарапаны, набиты в разных местах. Лечение простое: если можешь дотянуться до раны, надо облизать ее, обслюнявить, и все пройдет. Ссадины и царапины лечили подорожником, прикладывая лист к ушибленному месту. Когда я разбивался и ревел, тетка Таня приговаривала, успокаивая:
— Конечно, рази не больно! По живому-то мясу хоть гладь, хоть скреби, все больно.
Если я расшибался так, что из носа или изо рта появлялась кровь, или разбивал голову, тетка Таня поила меня каким-то снадобьем. Натирала в молоко красного камня, молоко приобретало алый, почти оранжевый цвет. Признаюсь, молоко я так любил, что частенько прибегал к обману. Прихожу домой со слезами.
— Что с тобой?
— Головой ударился больно.
Мама делала массаж головы, а тетка Таня натирала камня, и я с тайным восторгом пил алое, густое и сладкое молоко.
Болезни я вспоминаю еще потому, что им сопутствовали всегда одиночество и тоска.
Конечно, чаще всего я болел осенью и зимой, поэтому и в памяти остались картины этих сезонов. Я сижу у окна. На дворе осень. Я вижу, как груды облаков уходят на север. Они холодные, белоснежные, как зимой. А небо яркое, влажное и голубое. В полдень еще светло. На осине, черемухе и рябине редкие золотые листья. Они сквозят и трепещут на фоне неба. На сучьях и листьях весь день держатся льдинки. Они качаются, высвечиваются под солнцем как хрусталь, тают, уменьшаются в размерах и пропадают.
Я пересаживаюсь к другому окну. Отсюда мне видно, как за домом бушует ветер. А дома уютно. Двойные рамы заклеены и замазаны к зиме. Печь тепло вытоплена. Изба приготовлена к стуже, которая откуда-то только еще подбирается. По улицам, по задам, конопляникам и гумнам кружит ветер. Он несет с собой желтые листья и подметает ими дорогу. Я думаю с тоской и радостью, что до первого снега недалеко, что как-то вечером я усну, а утром проснусь и увижу, что все белым-бело, как во сне. Земля становится пустынной, ветер, дождь, мгла гладят, чистят, охаживают ее. Птиц уже нет. Вороны и галки не в счет. Все замерло до весны.
Я сижу один. Санька спит, Василий болеет. Внезапно наступает темнота, и мне становится страшно. Мама кричит, чтобы я убирался на полати, потому что в окно дует. И когда бы я ни глядел на улицу осенью, я вижу только, как тучи идут без конца. Они плывут гряда за грядой. И редко кто пройдет по улице. Вот только что отец вышел из дому и прошел мимо окна, крупно шагая, а сейчас уже его следы под дождем у крыльца расплылись и наполнились водой.
Но вот наступила зима. Я снова сижу один и до боли в глазах смотрю в предвечернюю серую тьму. А вечером, когда восходит луна, от ее света переплеты рам дают страшные кресты на деревянном, выскобленном до блеска полу. На улице луна освещает белый снег, над ним, как дивная пудра, снежная пыль. Она колышется — то вздымается, то ниспадает. И в этой мутной среде голая черемуха с черными сучьями шевелится от ветра и снега. Но вот уже воздух очищается, снежная пыль оседает, и чистая, светлая луна смотрит настороженно в окно. Все в избе светлеет, кресты на полу пропадают. Мгла, которая только что пугала меня, исчезает, а с ней улетучивается и напрасный страх.
Эти зимние вечера с их мглой, светом и лазурью, которые запомнились мне в связи с одиночеством и болезнями, не выходят из моего сознания, когда я думаю о раннем детстве.
Когда приходят взрослые и зажигают лучину в поставце, я ладонью закрываю от себя свет и вижу, как нежно просвечивает рубиновая кровь в моих пальцах, и принимаю это как символ жизни, которая побеждает болезнь.
Настало время, когда я, переболев всеми болезнями, настолько окреп, что, казалось, меня уже ничто не может взять. Я был худ, низкоросл, не отличался особой физической силой, но болеть перестал. В ненастную погоду по-прежнему возвращался домой с мокрыми ногами, продрогший до мозга костей, но последствий никаких не было. В школе то и дело были свинка, грипп, ангина, но меня это все миновало.
Зато начала болеть бабушка, которой, казалось, сносу не будет.
Она совсем занемогла, когда, вступив в коммуну, мы переехали жить в поле. Там коммунары построили два огромных (по нашим масштабам) двухэтажных жилых дома, кухню, столовую, баню, дворы: конный, скотный и свинарник. Все было новое, добротное, невиданное. Мы торжествовали и смотрели на новые дома, в которых нам предстояло жить, как на роскошные дворцы, а жизнь в них нам представлялась заманчивой. И в этой обстановке всеобщего подъема и радости любовь бабушки к неприглядному быту, в котором мы жили до коммуны, была непостижима. Она была насмерть привязана к старому. Ее пугала широкая деревянная лестница, которая вела на второй этаж, она боялась входить в уборную. Бабушку пугали огромные окна в комнате. Она говорила, что как только подует ветер, так сразу все рамы вылетят. Она была привязана к своему прежнему жилью, в котором прошла вся ее безрадостная жизнь, как зверь к своему гнезду или норе. Кроме того, попав в новые условия, бабушка почувствовала себя ни на что не годной. Коров кормили и доили доярки, за лошадьми ухаживали конюхи, хлеб пекся в пекарне, еду готовили в столовой. Комната, в которую нас поселили, обогревалась маленькой печкой, в которой нельзя было ни хлеб испечь, ни обед приготовить. Обобществлено было все: не только скот, птица, инвентарь, но и предметы быта, вплоть до ножей и ложек. Бабка Парашкева ходила озабоченная, грустная и неприкаянная. Иногда она еще была в силах шутить:
— Куда я гожусь? Я счас, как старая корчага, никому не нужна. У нас ведь все обчее. А я кому нужна?
Мне она постоянно рассказывала, что у нее в коммуну забрали новенькую сельницу, которую она только что купила, а лавки, на которых сидели еще прадеды, пришлось выбросить — в новой комнате их некуда было поставить, их заменили табуретки.
Наступило время, когда бабушка окончательно сдала. Раньше она хвасталась, намекая на себя:
— Стар гриб, да корень свеж.
Потом уже заявляла, и это была правда:
— Плоть немощна, да дух добр.
Затем появились другие мотивы:
— Садился — бодрился, а сел — свалился. Охо-хо. Здоровье-то мое зелено пожато, сыро съедено.
Бабушка то и дело жаловалась:
— Стала беспамятная, будто муха.
Наконец начала о смерти думать, побаиваться ее:
— Старость не радость, да и смерть не корысть. Не находка, говорю, смерть. Больно не хотца умирать-то.
И все чаще упивалась воспоминаниями:
— Эх, я молода бывала, дак на крыльях летала. Стара счас стала, дак на кровати лежу. Бывало, ох, мужиков проклятых любила. Сказать смешно, да и утаить грешно. А счас че? Съела бабка Парашкева зубы, остались язык да губы. Только позубоскалить и осталось. Дак ведь не до смеху теперь, здоровья-то совсем не стало. А ведь если по правде говорить, то как мы жили прежде-то? Так-то не работали, не ломали. Летом от зари до зари, что говорить, зато зимой, кажись, сиди на печи да три кирпичи. Дак опять есть нечего, не работали, зато голодом сидели. Да что ни год, то робенок. Детей было в каждом доме как в комарище. И ведь каждого жалко. Даже у всякой собаки своя кличка имеется, а тут ведь робенок — как ни поверни, своя кровь. У себя-то во рту каждый зуб болен.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: