Жермена де Сталь - Десять лет в изгнании
- Название:Десять лет в изгнании
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Крига
- Год:2017
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-98456-060-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жермена де Сталь - Десять лет в изгнании краткое содержание
Перевод снабжен подробными комментариями, в которых не только разъясняются упомянутые в тексте реалии, но и восстанавливаются источники сведений г-жи де Сталь о России и круг ее русских знакомств.
Книга переведена и откомментирована ведущим научным сотрудником ИВГИ РГГУ Верой Аркадьевной Мильчиной.
Десять лет в изгнании - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
278Годом позже, в июне 1803 г., префект департамента Па-де-Кале Жак-Франсуа де Ла Шез (1743–1823) обратился к первому консулу, посетившему главный город департамента, Аррас, со следующей речью: «Всем известно, что ради счастья и величия Франции, ради того, чтобы возвратить всем народам свободу торговли и свободу морей, ради того, чтобы на всей земле наконец воцарился мир, Господь создал Бонапарта и почил от трудов своих». 7 июля 1803 г. речь эта была напечатана в «Журналь де Деба». Шли слухи, что злые языки из числа роялистов продолжили речь префекта следующим образом: «Но Господу покой неведом: // Он де Ла Шеза сотворил // За нашим Бонапартом следом // И лишь затем от дел почил».
279В немецком городе Раштатте с 1797 по 1799 г. шли переговоры между представителями Австрии, Пруссии и Франции о возмещении убытков (индемнизации) германским князьям, которые по Кампоформийскому договору утратили территории на левом берегу Рейна, отошедшие к Франции. В 1801 г. обсуждение этого вопроса было продолжено на переговорах, предшествовавших подписанию Люневильского мира; статья 7-я Люневильского договора предусматривала, что компенсации должна предоставить сама Германская империя, однако пункт этот касался только светских князей; нерешенной оставалась судьба трех духовных курфюршеств: Майнцского, Трирского и Кельнского. Передел имперской территории открывал большие возможности для спекуляций, и этим не замедлил воспользоваться Талейран, который, улаживая с немецкими князьями вопрос о компенсациях, получал от них щедрые взятки (в общей сложности от 10 до 15 миллионов); не случайно его биограф называет эту работу «самым выгодным делом из всех, какими занимался Талейран в эпоху Консульства», делом, которое «стало фундаментом его огромного состояния» ( Lacour-Gayet . Р. 452–453). В 1801–1802 гг. Франция заключила отдельные договоры со многими германскими государствами: Баварией, Вюртембергом, Гессен-Даршмтадтом, Пруссией и др. В результате 25 февраля 1803 г. Регенсбургский сейм принял, а 27 апреля германский император ратифицировал имперский протокол, кардинально менявший всю политическую карту империи: 112 государств прекратили свое существование; духовные курфюршества, за исключением архиепископства Майнцского и владений Тевтонского и Мальтийского орденов, были секуляризованы. Этот эпизод стал важным шагом на пути к полному уничтожению Германской империи и основанию вместо нее Рейнского союза под протекторатом Наполеона (12 июля 1806 г).
280Агент Людовика XVIII в донесении от 7 августа 1802 г. свидетельствует, что «иностранцы, и прежде всего англичане, во множестве прибывают в Париж, но нетрудно заметить, что движет ими одно лишь любопытство. Недаром они никогда не задерживаются у нас надолго. Они приезжают взглянуть на первого консула, побывать на разводе и на театральных представлениях, осмотреть музеи и другие достопримечательности, а затем уезжают», поскольку не находят в Париже хорошего общества и видят в этом городе «не что иное, как большой трактир, где можно наблюдать последствия Революции и любоваться произведениями искусства, вывезенными из Италии и Фландрии» ( Remacle . Р. 93). По данным английского посланника в Париже в 1802 г. Мерри, летом этого года в столице Франции побывало около пяти тысяч англичан, однако уже к зиме 1802–1803 гг. их осталось всего 1700.
281Чарлз Джеймс Фокс (1749–1806) возглавлял партию вигов, которая, в отличие от правящей партии тори, выступала сначала за примирение с революционной Францией, а затем за союз с Бонапартом; Фокс сыграл большую роль в подготовке Амьенского мира. Уважая политиков, стоящих во главе обеих партий, — и саркастического властного Питта, и пылкого свободолюбивого Фокса (их параллель см. в РФР, ч. 3, гл. 14), Сталь «по велению души сочувствовала тому, кто не стоит у власти», то есть Фоксу ( О литературе. С. 227), с которым она была знакома со времен своего пребывания в Лондоне в 1793 г. Тем не менее отношение английской оппозиции к Бонапарту она считала ошибочным, о чем подробно пишет в РФР в главе «Следовало ли Англии заключать мир с Бонапартом после назначения его первым консулом?» (ч. 4, гл. 5): «В 1803 году, к несчастью для духа свободы в Англии, а следовательно, и на всем континенте, коему эта страна служит маяком, оппозиция, возглавляемая г-ном Фоксом, заблуждалась насчет Бонапарта самым прискорбным образом, и именно с тех пор эта партия, впрочем весьма почтенная, утратила то влияние на нацию, какое в других отношениях было бы для страны весьма благотворным. Защищая Французскую революцию во времена Террора, члены английской оппозиции и без того зашли чересчур далеко, но что могло быть опаснее объявления Бонапарта защитником этой Революции, чьи принципы он на самом деле безжалостно разрушал!» (CRF. Р. 371).
282Фокс приехал в Париж в начале августа 1802 г. и дважды (2 сентября и 7 октября) был принят Бонапартом, который на Святой Елене вспоминал эти визиты в весьма восторженном тоне и утверждал, что «полдюжины людей, подобных Фоксу», хватило бы для нравственного оправдания любой нации (Las Cases. Р. 317; 10 июня 1816 г.). Сталь во время пребывания Фокса в Париже находилась в Коппе.
283В понимании Сталь беседа представляла собой нечто большее, чем обычное светское препровождение времени; революционная эпоха, когда была объявлена свобода печати и появилось множество газет самых разных направлений, а в выборных политических собраниях стали устраиваться дебаты, убедила Сталь в силе красноречия как орудия и оружия; однако для нее как женщины политические собрания были закрыты, поэтому она пользовалась доступной ей формой использования слова как политического инструмента — салонной беседой. Этот опыт в дальнейшем отразился в ее теоретических сочинениях; в РФР (ч. 2, гл. 17) она описывает первые революционные годы как золотое время французской беседы, когда та утратила фривольную пустопорожность, царившую во многих салонах при Старом порядке, но еще не стала жертвой «духа партий» или раболепства царедворцев, как эпоху, когда «сила свободы смешалась с элегантностью аристократии» ( CRF . Р. 228). В салонах обсуждались серьезные политические и общественные проблемы, но при этом дух светскости позволял носителям самых разных убеждений сидеть за одним столом и общаться самым мирным образом. С 1789 до конца 1791 г., пишет Сталь, «интересы, чувства, образ мысли разделяли французов на две партии [сторонников свободы и сторонников Старого порядка], однако до тех пор, пока одна из них не начала воздвигать эшафоты, слово оставалось достойным посредником между ними. В ту пору французский ум явил себя — увы, в последний раз — во всем своем блеске; в ту пору парижское общество в последний, а в каком-то смысле и в первый раз показало, что означает сообщение выдающихся умов — благороднейшее из наслаждений, на какое способна человеческая природа» ( CRF . Р. 229). Это «сообщение выдающихся умов» и происходило в форме салонной беседы, которая затем подверглась «порче»: ей стало недоставать и серьезности в выборе тем, и уважения к собеседникам. Между тем настоящая светская беседа — отнюдь не просто суетная забава; она способна играть огромную «цивилизующую» роль: «Только светскость способна смягчить политические страсти, благодаря ей мы можем видеться, еще не полюбив друг друга, беседовать, еще не придя к общему мнению, и вот уже глубокое отвращение к человеку, с которым мы сроду не перемолвились двумя словами, начинает слабеть: учтивые разговоры, почтительная предупредительность собеседника будят в нашей душе добрые чувства и связуют нас с тем, кого мы прежде считали своим врагом, узами братской любви» ( О литературе. С. 284). Сходным образом в ОГ, в главе, которая так и называется — «О духе беседы» (ч. 1, гл. 11), Сталь, подчеркивая, что беседа есть определенная форма общения в свете, и отмечая ее сильные и слабые стороны («аристократические представления о хорошем тоне и элегантности брали верх над энергией, глубиной, чувствительностью и даже умом»), призывает, тем не менее, серьезных, трудолюбивых и несветских немцев воспользоваться некоторыми преимуществами французской «разговорной» культуры — в частности, «почерпнуть из искусства беседы привычку вносить в книги ту ясность, которая делает их доступными для большинства читателей, тот талант быть краткими, который известен народам, ищущим развлечений, куда лучше, чем народам, занятым делами, то почтение к приличиям, которое не искажает природу, но щадит воображение» ( DA . T. 1. Р. 110). Наполеону, по мнению Сталь, были чужды и умение развивать в беседе серьезные и высокие идеи, и умение уживаться в рамках светского разговора с политическими противниками. О сталевской концепции беседы см.: Principato A. Madame de Staël: la conversation et son miroir romanesque // CS. № 52. Р. 52, 53–74; Serman J.-Р. Conversation et écriture chez Madame de Staël // Ibid. Р. 75–93; Зенкин C. Н. Французский романтизм и идея культуры. М., 2002. С. 110–112.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
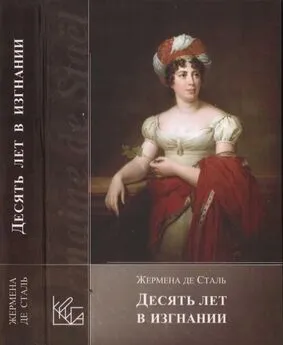
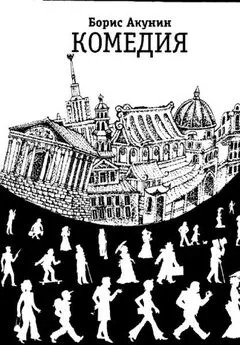

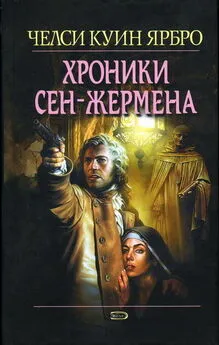
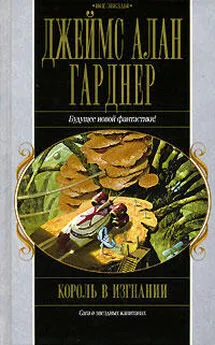
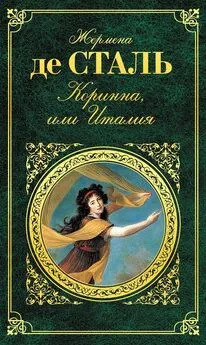
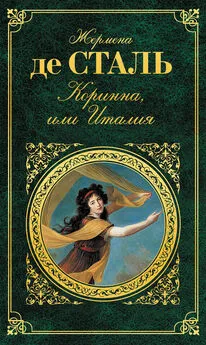
![Макс Мах - Эпоха мечей: Короли в изгнании. Времена не выбирают. Время жить, время умирать [сборник litres]](/books/1064131/maks-mah-epoha-mechej-koroli-v-izgnanii-vremena-n.webp)
