Жермена де Сталь - Десять лет в изгнании
- Название:Десять лет в изгнании
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Крига
- Год:2017
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-98456-060-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жермена де Сталь - Десять лет в изгнании краткое содержание
Перевод снабжен подробными комментариями, в которых не только разъясняются упомянутые в тексте реалии, но и восстанавливаются источники сведений г-жи де Сталь о России и круг ее русских знакомств.
Книга переведена и откомментирована ведущим научным сотрудником ИВГИ РГГУ Верой Аркадьевной Мильчиной.
Десять лет в изгнании - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
711Московский Воспитательный дом для незаконнорожденных детей, учрежденный манифестом Екатерины II по инициативе И. И. Бецкого 1 сентября 1763 г., был построен архитектором К. И. Бланком в 1764–1768 гг. на Васильевском лугу между Солянкой и Москвой-рекой. О воспитательных домах см.: Berelowitch W. Les hospices des enfants trouvés en Russie, 1763–1914 // Enfance abandonnée et société en Europe, XlVe — XXe siècle. Rome, 1991. R 167–217.
712На этом месте набросок «Москва» обрывается.
713Петр Егорович Левшин (1737–1812), в 1758 г. принявший монашество под именем Платона, с 1787 г. митрополит Московский, в царствование Александра I из-за преклонного возраста и болезней почти безвыездно жил в Троице- Сергиевой лавре или в Вифании (небольшом монастыре по соседству). Платон не смог приехать в Москву в июле 1812 г., когда там находился император Александр, однако 26 августа / 7 сентября 1812 г., в самый день Бородинского сражения, в то время, когда викарий московский и прочие московские священнослужители готовились ее покинуть, он прибыл в Москву, чтобы поддержать дух москвичей, а вскоре, 11/23 ноября 1812 г., скончался. О Платоне Сталь знала еще до приезда в Россию — в частности, из писем князя де Линя, который в 1787 г. писал маркизе де Куаньи из Москвы: «Знай Вы нашего архиепископа, Вы бы полюбили его до безумия, а он бы ответил Вам взаимностью. Зовут его Платоном, и он куда лучше прежнего, того, кого именовали божественным. Вот Вам доказательство, что этот Платон — человеческий: вчера княгиня Голицына, выходя из его сада, попросила у него благословения; он сорвал розу и благословил ее розой» ( Ligne. Р. 522). Митрополита Платона (в петербургский период своей жизни изучившего французский язык) с симпатией упоминают и другие авторы книг о России: Фортиа де Пиль («архиепископ Платон — человек любезный, отличающийся обширными познаниями и веселостью» — Fortia. Т. 3. Р. 287), Массон, редко о ком отзывающийся сочувственно ( Массон. С. 140), и даже весьма критичный по отношению к России автор «Путешествия по странам Европы…» англичанин Э. Д. Кларк (1810, фр. пер. 1813; см.: Egron. Р. 250–255). В письме к Александру I от 14 / 26 июля 1812 г. Платон писал: «Пусть дерзкий и наглый Голиаф от пределов Франции обносит на краях России смертоносные ужасы; но кроткая вера — сия праща российского Давида сразит внезапно главу кровожаждущей его гордыни» (Северная почта. 1812. № 61. 31 июля 1812 г.). Присланная при письме икона изображала не Богородицу, а преподобного Сергия; икона эта, «написанная в царствование Федора Алексеевича на доске от гроба преподобного Сергия», сопутствовала русским войскам в войне с Польшей при Алексее Михайловиче и в войне со шведами при Петре I (см.: Попов А. Н. Москва в 1812 году // РА. 1875. № 7. С. 305). Александр ответил Платону благодарственным письмом, и 23 июля / 4 августа митрополит написал к императору вторично. В этом письме среди прочего говорилось: «Фараон погрязнет здесь с полчищем своим, яко в Чермном море. Он пришел к берегам Двины и Днепра провести третию новую реку — страшно выговорить! реку крови человеческой. О! каждая крови капля воззовет от земли к небу!» (Северная почта. 17 августа 1812 г.). Именно на это второе письмо ссылается Сталь в «Путевом дневнике»: «Архиепископ Платон, старый и больной, покинул свое уединение, чтобы благословить московских ополченцев: „И перешел враг две реки, третья же будет из крови“» ( Carnets. Р. 314). К числу русских собеседников, от которых г-жа де Сталь могла слышать о посланиях Платона и присланной им иконе, принадлежал, возможно, Ф. В. Ростопчин (см. примеч. 716); ср. в его «Записках о 1812 годе»: «Он [Платон] имел уже несколько параличных припадков, так что даже очень плохо владел языком. Болезненное состояние это не помешало ему прислать, из своего уединения, икону св. Сергия с приложением прекрасного послания, в котором он предсказывал государю славное окончание войны, сравнивая его с пастырем Давидом, а Наполеона — с Голиафом» ( Ростопчин. С. 268).
714Наполеон в самом деле поднялся на колокольню Ивана Великого 16 сентября 1812 г., чтобы взглянуть на пожар, который охватил Москву накануне ночью. Ср. в РФР (ч. 4, гл. 19): «Я покинула Москву ровно за месяц до того, как в нее вошел Наполеон; я не осмеливалась оставаться в ней дольше именно потому, что опасалась его приближения. Прогуливаясь по Кремлю, старинному царскому дворцу, который возвышается над огромной столицей России и ее церквями, коих здесь насчитывается тысяча восемьсот, я размышляла о том, что Бонапарту дано было видеть империи у своих ног, как Сатане дано было искушать властью над ними Господа нашего. И вот, когда в Европе больше не осталось стран незавоеванных, судьба швырнула его вниз с такой же стремительностью, с какой он поднялся наверх. Быть может, благодаря этому он наконец понял, что, какие бы события ни происходили в первых сценах трагедии, добродетель неизменно оказывает свое могущество в последнем акте, подобно античному богу, который являлся в конце пьесы и вмешивался в ее действие, если оно было того достойно» (CRF. Р. 430).
715Имеется в виду хан Золотой Орды Тохтамыш, который разгромил и сжег Москву в 1382 г. (см.: Levesque. Т. 2. Р. 186–190). Эта историческая реминисценция отозвалась в именовании французской армии «Золотой Ордой, которая со всех сторон осаждает империю, отделяющую Азию от Европы», в письме г-жи де Сталь к Этьенну Дюмону из Стокгольма от 13 октября 1812 г. ( CS . № 39. Р. 31).
716Граф Федор Васильевич Ростопчин (1763–1826) служил в Коллегии иностранных дел с 1798 г., а затем был первоприсутствующим в Коллегии иностранных дел с сентября 1799 по февраль 1801 г., после чего впал в немилость, и Павел I, который прежде весьма к нему благоволил, уволил его от всех должностей. Поворот Павла I к сближению с первым консулом произошел еще при Ростопчине, который был в эту пору активным сторонником союза с Францией. При Александре I Ростопчин долгое время оставался не у дел из-за нерасположения императора; главнокомандующим в Москве он был назначен 29 мая 1812 г. и занимал эту должность до 30 августа 1814 г. (см.: РБС. Романов — Рясовский. Пг., 1918. С. 238–305). Сохранилось письмо Ростопчина к г-же де Сталь, датированное 22 июля / 3 августа 1812 г. (Сталь приехала в Москву накануне): «Сударыня! Киевский генерал-губернатор должен быть премного Вам благодарен за согласие воспользоваться рекомендательным его письмом, мне адресованным, — самое имя Ваше призвано служить вернейшим залогом того усердия, с каким всякий порядочный человек поспешит доказать Вам права Ваши на его предупредительное участие. По сей-то причине прошу я Вас располагать мною и позволить сказать, к великой радости моей, что сумел я Вам на что- нибудь пригодиться. Отправился бы к Вам самолично, кабы злосчастная головная боль дома не удерживала; жена счастлива будет Вас узнать и разделяет со мною глубочайшее уважение, с коим имею я честь оставаться, сударыня, покорнейшим и почтительнейшим слугою Вашим» ( CS. № 39. Р. 24; ориг, по-фр.). В позднейших воспоминаниях (1825) Ростопчин отозвался о визите г-жи де Сталь в тоне весьма пренебрежительном: «Во время занятий, не оставлявших мне ни минуты покоя, злая судьба моя привела в Москву г-жу де Сталь. Надо было видаться с нею, приглашать ее к обеду и успокаивать насколько возможно. […] Г-жа де Сталь все жаловалась и страшно боялась, как бы Наполеон, занятый единственно ее преследованием и бесясь на то, что она ушла, не послал бы отряда кавалерии, чтобы похитить ее из Москвы. Чтобы более убедить меня в том, она всегда прибавляла: „Вы знаете этого человека, он на все способен!“ Так как в то время, когда она опасалась быть похищенной по приказу Наполеона, последний находился еще на расстоянии 800 верст от Москвы, то я не принимал никаких мер для воспрепятствования этому похищению» ( Ростопчин . С. 280–281); ср. также остроту Ростопчина, который, перефразировав название оперы Россини «Сорока-воровка» («Pie-voleuse»), назвал г-жу де Сталь «сорокой-заговорщицей» (pie-conspiratrice) ( Дурылин. С. 291). Такая глумливость вполне соответствовала показной галлофобии Ростопчина, который, хотя с 1815 по 1823 г. жил во Франции, в текстах этого времени продолжал оценивать французскую нацию весьма скептически (см., в частности, его «Картину Франции в 1823 году» — РА. 1872. Кн. 1). Вернувшись в Париж, Сталь пригласила Ростопчина к себе (письмо с приглашением см.: Дурылин. С. 290). Если судить по письму французского литератора Жуи, воспроизводящего парижскую беседу Ростопчина и Сталь о сравнительных достоинствах русской и французской истории (Там же. С. 290), общение их быстро превращалось в пикировку.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
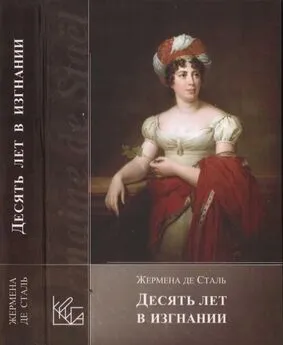
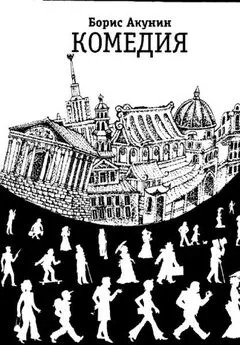

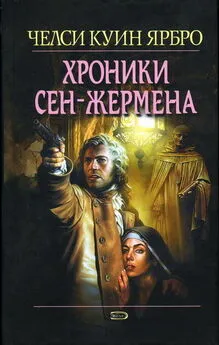
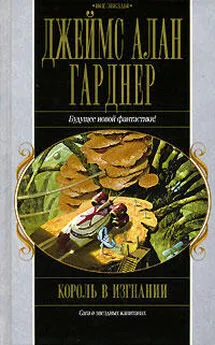
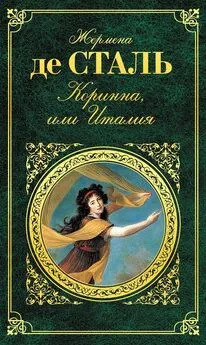
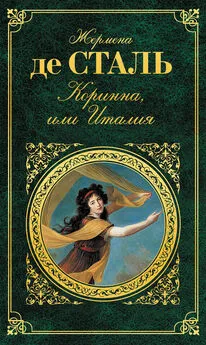
![Макс Мах - Эпоха мечей: Короли в изгнании. Времена не выбирают. Время жить, время умирать [сборник litres]](/books/1064131/maks-mah-epoha-mechej-koroli-v-izgnanii-vremena-n.webp)
