Жермена де Сталь - Десять лет в изгнании
- Название:Десять лет в изгнании
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Крига
- Год:2017
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-98456-060-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жермена де Сталь - Десять лет в изгнании краткое содержание
Перевод снабжен подробными комментариями, в которых не только разъясняются упомянутые в тексте реалии, но и восстанавливаются источники сведений г-жи де Сталь о России и круг ее русских знакомств.
Книга переведена и откомментирована ведущим научным сотрудником ИВГИ РГГУ Верой Аркадьевной Мильчиной.
Десять лет в изгнании - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
723Графиня Екатерина Петровна Ростопчина (урожд. Протасова; 1775–1859), жена графа Ф. В. Ростопчина с 1794 г., принадлежала к числу тех русских дам, которые, отчаявшись обрести духовных пастырей в лице малообразованных православных священников, перешли в католичество. Е. П. Ростопчина сделалась католичкой в 1806 или 1810 г., последовав примеру своей старшей сестры Александры Петровны, жены князя Алексея Андреевича Голицына (см.: Rouët de Joumel M.-J. Un Collège de Jésuites à Saint-Pétersbourg, 1800–1816. Р., 1922. Р. 218, 220; Schlafly D. De Joseph de Maistre à la «Bibliothèque rose»: le catholicisme chez les Rostoptchin // Cahiers du monde russe et soviétique. 1970. T. XI. Р 93- 109). Графиня оставила несколько книг духовного содержания на французском языке; книга, подаренная г-же де Сталь, — по всей вероятности, «Recueil de preuves sur la vérité de la religion» (Сборник доказательств истинности религии), вышедший в Москве в 1810 г. Можно предположить, что общение г-жи де Сталь с графиней Ростопчиной прошло не безоблачно; если верить воспоминаниям дочери графини, Натальи Нарышкиной, на вопрос г-жи де Сталь, читала ли она «Коринну», Ростопчина ответила: «Я романов не читаю; я предпочитаю серьезное чтение» (цит. по: Schlafly D. Op. cit. R 100–101).
724Образование, отданное на откуп иностранцам (немцам и/или французам), — «общее место» французских и, шире, европейских описаний России; см., например, у Массона перечисление прославленных ученых, работающих в России, которое завершается выводом: «Все эти достойные люди — немцы, и притом иностранные подданные. Скажите же, разве можем мы приписать их славу и плоды их ученых разысканий русским?» (Masson-Lettres. P. 143). Во многом такие представления соответствовали действительности, однако реальность, разумеется, была сложнее стереотипных представлений: многие «немцы», носившие немецкие фамилии, но родившиеся на территории Российской империи (например, в остзейских губерниях), сами себя ощущали отнюдь не немцами, а русскими, однако их происхождение позволяло при необходимости оживлять и пускать в ход миф о немецком засилье и «России, завоеванной немцами» (название французской брошюры, выпущенной в 1844 г. Ф. Ф. Вигелем). Об относительности в русских условиях самого понятия «немец» и о силе «антинемецких» нападок, обострившихся в атмосфере патриотического подъема 1812 г., свидетельствует хотя бы эпизод с отстранением 17 / 29 августа 1812 г. М. Б. Барклая де Толли с поста командующего 1-й Западной армией: общественное мнение требовало отставки «немца» Барклая (потомка старинного шотландского рода, но рожденного в семье российского подданного), но встретило совершенно спокойно весть (впоследствии не подтвердившуюся) о назначении на этот пост настоящего немца Л. Беннигсена (три десятка лет служившего в русской армии, однако так и не принявшего русского подданства); не меньшей популярностью пользовался и другой потомок старинного германского рода — генерал П. X. Витгенштейн (см.: Тартаковский. С. 118–121). См. также: Рогов К. Ю. Декабристы и «немцы» // Новое лит. обозрение. 1997. № 26. С. 105–126.
725Это утверждение — следствие убежденности г-жи де Сталь в том, что русские — «воинская» нация, а Россия — государство, устроенное на военный манер. В реальности университетское образование облегчало не военную, а гражданскую карьеру: ученые степени и дипломы различных учебных заведений давали право зачисления на службу с определенным классным чином; ученая степень доктора, полученная в российском университете, давала право на получение чина 8-го класса, магистра — 9-го класса, кандидата — 10-го класса; лица, окончившие университеты или Главный педагогический институт со званием действительного студента, имели право на чин 12-го класса. В военную службу после окончания университета вступали прежде всего те, кто желал получить потомственное дворянство (в описываемую эпоху его приносил первый офицерский чин). См.: Раскин Д. И. Исторические реалии биографий русских писателей XIX — начала XX в. // Русские писатели, 1800–1917: Биографический словарь. М., 1992. Т. 2. С. 596–599; Он же. Сословия в Российской империи и типовые сценарии жизненного пути россиян в XIX — начале XX в. // Английская набережная, 4. СПб., 2001. С. 232–235. Ниже (см. наст, изд., с. 156) сама Сталь описывает ситуацию иначе, подчеркивая, что лица, желающие получить дворянство, пренебрегают учебой и вступают в военное звание. По мнению Б. В. Томашевского, комментируемый пассаж относится к числу тех «замечаний, разительных по своей новости и истине» ( Пушкин. Т. XI. С. 27), за которые Пушкин ценил «Десять лет в изгнании», и отзвук знакомства с ним различим в записке Пушкина «О народном воспитании» (1826) (см.: Томашевский. С. 85).
726Сталь, еще со времен ОЛ приветствовавшая сосуществование разных типов литератур (южной и северной), а в ОТ попытавшаяся объяснить французам, чем немецкая культура способна обогатить культуру французскую, разумеется, не могла одобрить подражательный характер русской литературы, а в особенности то обстоятельство, что русские подражают французской словесности, тем самым способствуя распространению ее господства в мире, и без того значительного. Сходные упреки в подражании французской словесности и в недостатке «национальной самобытности» предъявлены в ОГ (ч. 2, гл. 4) Виланду. Даже пропагандируя переводы как форму контакта разных национальных литератур, Сталь в статье «О духе переводов» (1816) советовала итальянцам «не уподобляться французам, которые окрашивают все переводимые сочинения в привычные их соотечественникам тона; пусть даже при этом всё, к чему прикасается француз, обращается в золото, одними драгоценностями сыт не будешь: люди не найдут, чем питать свою мысль; под разными масками взору их будет являться всегда одно и то же лицо» (О литературе. С. 385). Тем больше оснований у нее было ожидать самобытности и экзотики от русских, о чьей литературе она, впрочем, могла судить исключительно по французским переводам.
727В первой половине 1770-х гг. при русском дворе зародился так называемый «греческий проект» — воссоздание греческой монархии со столицей в Константинополе и под скипетром одного из представителей дома Романовых (см.: Зорин . С. 33–64). В политическом и мифологическом сознании русских людей завоевание Константинополя оставалось одной из доминирующих идей; что же касается европейских журналистов и политиков, то они рассуждали о походе русской армии на Константинополь даже в те моменты, когда реальная политическая власть Российской империи была от таких намерений максимально далека; так укреплялось представление об агрессивной мощи России и опасностях, какими чревато ее существование для остальных стран (см.: Осповат. С. 481–484). Из ближайших предшественников Сталь о проекте «восстановить престол Константина» упоминал Массон ( Массон . С. 55).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
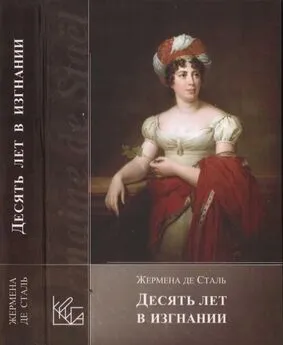
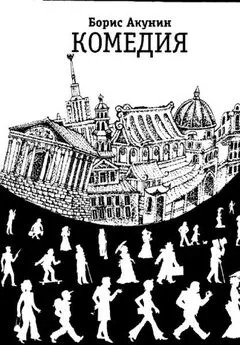

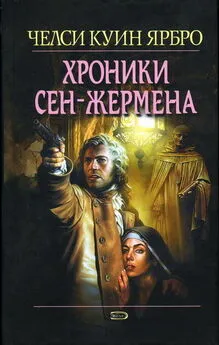
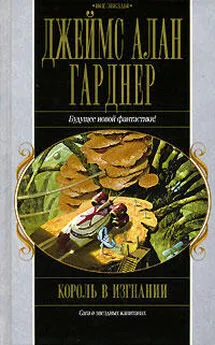
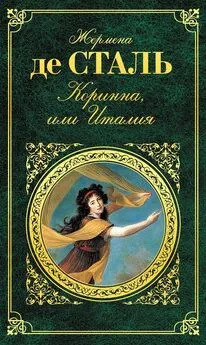
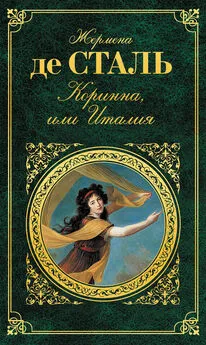
![Макс Мах - Эпоха мечей: Короли в изгнании. Времена не выбирают. Время жить, время умирать [сборник litres]](/books/1064131/maks-mah-epoha-mechej-koroli-v-izgnanii-vremena-n.webp)
