Жермена де Сталь - Десять лет в изгнании
- Название:Десять лет в изгнании
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Крига
- Год:2017
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-98456-060-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жермена де Сталь - Десять лет в изгнании краткое содержание
Перевод снабжен подробными комментариями, в которых не только разъясняются упомянутые в тексте реалии, но и восстанавливаются источники сведений г-жи де Сталь о России и круг ее русских знакомств.
Книга переведена и откомментирована ведущим научным сотрудником ИВГИ РГГУ Верой Аркадьевной Мильчиной.
Десять лет в изгнании - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
738Ср. тот же образ в «Путешествии в Петербург» Л. де Ла Мессельера (изд. 1803): «Мы прибыли в Санкт-Петербург 2 июля 1757 г. Зная, что меньше полувека назад на месте этого города простирались непроходимые болота, при первом взгляде на него является мысль, что он только что создан феями» (цит. по: Berelowitch. Р. 65; здесь же см. другие примеры описания Петербурга европейскими путешественниками XVIII в. как города, «чудом» возникшего среди болот).
739Реминисценция из Вольтера (см. примеч. 708).
7401/13 августа 1812 г.
741Выражение, возникновение которого (в значении «очень старый») словари датируют серединой XVII в. (см.: Le Grand Robert de la langue française. Р., 1988. T. 8. Р. 502). В «Путешествии из Москвы в Петербург» — тексте, включающем прямую ссылку на г-жу де Сталь (см. примеч. 761), Пушкин вспоминает это же выражение (причем тоже как неприменимое) в связи с московскими барышнями: в Москве «остались одни невесты, к которым нельзя, по крайней мере, применить грубую пословицу „vieilles comme les rues“: московские улицы, благодаря 1812 году, моложе московских красавиц, все еще цветущих розами!» ( Пушкин . T. XI. С. 246). Сходство двух фрагментов отмечено в: Томашевский. С. 94.
742Ср. в «Путевом дневнике»: «Ничто не может сравниться с набережной Невы. Это единственное, чем природа одарила Петербург» ( Carnets . Р. 324).
743Нравы лаццарони (неаполитанских нищих) описаны в «Коринне»: «…на Толедской улице лаццарони валялись прямо на мостовой или лежали в ивовых корзинах, которые служили им жильем. Есть нечто своеобразное в этом смешении дикости и цивилизации. […] В Неаполе есть подземный грот, где проводят жизнь тысячи лаццарони, покидая его лишь в полдень, чтобы погреться на солнышке; остальную часть дня они спят, предоставляя своим женам заниматься пряжей» ( Коринна . С. 188). Что касается кучеров, спящих на снегу, то о них Сталь, не видевшая Россию зимой, могла прочесть, например, у Массона, который в связи с этим даже называет русских извозчиков «олицетворением зимы» (Masson . Р. 406–407).
744Тезис, восходящий к Монтескье: «В холодных странах в силу климата развивается некоторое национальное пьянство, сильно отличающееся от пьянства отдельного лица. Пьянство распространено по всей земле в прямом отношении к холоду и сырости климата. Двигаясь от экватора к нашему полюсу, вы увидите, что пьянство возрастает вместе с градусами широты. Двигаясь от экватора к полюсу, противоположному нашему, вы увидите, что тут оно возрастает в направлении к югу, подобно тому как там возрастало в направлении к северу. Естественно, что там, где употребление вина противно климату, а следовательно, и здоровью, злоупотребление им наказывается строже, чем в странах, где дурные последствия пьянства не велики как для личности, так и для общества и где оно только дурманит людей, а не делает их свирепыми. Поэтому закон, каравший пьяного человека и за совершенный им поступок, и за его пьянство, касался только его личного, а не национального пьянства. Немец напивается по обычаю, испанец — по личному желанию» (О духе законов. Кн. 14, гл. 10; Монтескье. С. 204).
745Сталь жила в Петербурге в трактире «Европа» (см.: Санкт-Петербургские ведомости. № 65. Второе прибавление. 13 августа 1812 г.; Заборов. С. 216). Об этом доме в комплексе Главного штаба, где располагались hôtel de l’Europe и ресторан, принадлежавшие французу Тардифу, см.: Шульц С. С. Невская перспектива. СПб., 2004. С. 214–215.
746О сопротивлении подданных реформам Петра Сталь могла прочесть у Вольтера, который, в частности, замечал: «Петру суждено было вести долгую и трудную войну с врагами за пределами страны и мятежниками внутри нее; половина его собственной семьи осуждала его деяния, большинство священников упорно выступали против его предприятий, едва ли не вся нация долгое время не желала понять, в чем заключается ее счастье, и счастье это отвергала; Петру приходилось сражаться с предрассудками в головах и с недовольством в сердцах » (Voltaire. Р. 317). Монумент работы французского скульптора Э.-М. Фальконе (1716–1791), открытый в 1782 г., составлял «предмет восхищения всей Европы» ( Schnitzler J.-H. La Russie, la Pologne et la Finlande: Tableau statistique, géographique. Р., 1835. Р. 223) и входил в число петербургских памятников, «обязательных» для осмотра; возможно, разочарование, которое эта «хваленая статуя» вызывала у некоторых французских путешественников (см.: Кюстин . С. 111, 787), объяснялось именно тем, что действительность не могла оправдать столь завышенных ожиданий. Двойственная функция змеи (как опоры для статуи и как аллегории зависти и злобы) была общеизвестна; она обсуждалась еще в переписке Фальконе с императрицей Екатериной II и Дидро, причем если императрица сомневалась в целесообразности использования этого аллегорического элемента, то Фальконе и Дидро были его горячими сторонниками (см.: Каганович А. Л. Медный всадник: История создания монумента. Л., 1982. С. 88–90; Correspondance de Falconet avec Catherine II P., 1921. Р. 53–54). Отметим, что в переводе комментируемого фрагмента, опубликованном в «Новостях литературы» (1822. № 11. С. 162), весь критический пассаж о змеях опущен и оставлены только похвалы пьедесталу и надписи. Несмотря на скептическую оценку памятника Петру I, г-жа де Сталь в «Путевом дневнике», сама того не сознавая, подхватила ту традицию отношения к этому памятнику как к живому лицу, которая нашла завершение в пушкинском «Медном всаднике» (см.: Осповат А. Л., Тименчик Р. Д. «Печальну повесть сохранить…» 2-е изд. М., 1987, passim): «Старый Платон говорил статуе Петра I: „Это твоя победа. Тебе они ею обязаны“» ( Carnets . Р. 334). Сталь, по-видимому имеет в виду речь, которую Платон (см. примеч. 713), в ту пору законоучитель великого князя Павла Петровича, произнес во время заупокойной литургии и панихиды по основателю русского флота, отслуженных по поводу побед русского флота над турецким; речь эта, в которой Платон обращался к Петру Великому «как к живому» и призывал его взглянуть на «плоды трудов его», приобрела европейскую известность: императрица Екатерина приказала перевести ее на французский и отправила Вольтеру, который отозвался о ней с похвалой (см. его письмо к императрице от 15 мая 1771 г. в изд.: Voltaire-Kehl Р. 160); Сталь, разумеется, ошиблась в «адресации» этой речи: Платон произнес ее у гроба Петра в Петропавловском соборе, памятник же работы Фальконе был открыт одиннадцатью годами позже.
747Тезис, подхваченный Ансело в книге «Шесть месяцев в России» (1826): «Что бы ни говорили пристрастные современные историки, но коль скоро люди испытывают к имени этого государя столь глубокое уважение, следовательно, они сознают, сколь много сделал он для России: они — его потомки, а потомки нечасто льстят предкам» ( Ансело. С. 50, 237).
748В «Путевом дневнике» (записи Альбертины, исправленные г-жой де Сталь) значится имя этого негоцианта — барон Александр Александрович Раль (1756–1833), придворный банкир, у которого служил ее швейцарский знакомый Жак-Огюстен Галиф ( Carnets. Р. 296). Сталь обедала у Раля не на следующий день, а через день после приезда в Петербург, 15 августа ( DAE-1996. Р 282, 284). Раль жил в собственном доме на Староисаакиевской улице (см.: Реймерс Г. фон. Санкт-Петербургская адресная книга. СПб., 1809. С. 135–136, 492).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
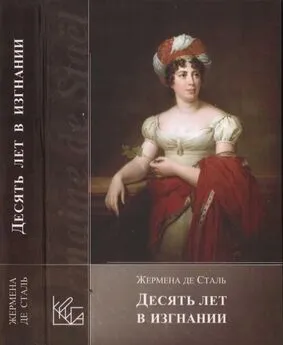
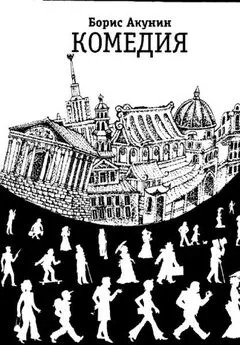

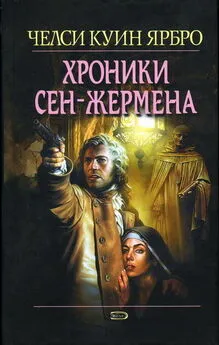
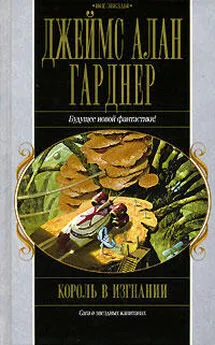
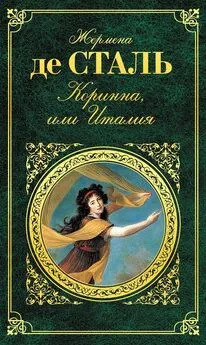
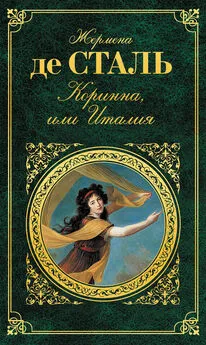
![Макс Мах - Эпоха мечей: Короли в изгнании. Времена не выбирают. Время жить, время умирать [сборник litres]](/books/1064131/maks-mah-epoha-mechej-koroli-v-izgnanii-vremena-n.webp)
