Жермена де Сталь - Десять лет в изгнании
- Название:Десять лет в изгнании
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Крига
- Год:2017
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-98456-060-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жермена де Сталь - Десять лет в изгнании краткое содержание
Перевод снабжен подробными комментариями, в которых не только разъясняются упомянутые в тексте реалии, но и восстанавливаются источники сведений г-жи де Сталь о России и круг ее русских знакомств.
Книга переведена и откомментирована ведущим научным сотрудником ИВГИ РГГУ Верой Аркадьевной Мильчиной.
Десять лет в изгнании - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
694Фраза г-жи де Сталь отразилась в пушкинском «Рославлеве»: «Ты слышала, что сказала она этому старому, несносному шуту, который из угождения к иностранке вздумал было смеяться над русскими бородами: „Народ, который, тому сто лет, отстоял свою бороду, отстоит в наше время и свою голову“» ( Пушкин. Т. VIII. С. 152). В 1812 г. деятельное участие народа в войне против французов выражалось среди прочего в увеличении числа «бородачей» на улицах городов; ср. свидетельство очевидца о Петербурге конца 1812 г.: в пешей толпе на улицах «гораздо реже можно было встретить военную или европейскую одежду, а все больше русские бороды, кафтаны и чуйки» (Бутенев А. Воспоминания // РА. 1883. Кн. 1. С. 5). Среди собеседников, с которыми Сталь могла обсуждать эту тему, — граф Ростопчин, в письме к императору Александру от 11 / 23 июля 1812 г. назвавший бороды «оплотом России» (цит. по: Пожар Москвы. М., 2001. С. 78), или Фабер (см. примеч. 676), писавший г-же де Сталь: «Русский народ под оружием, он поднялся как один человек […] Совершенно исключительное зрелище представлял этот народ в походе, эти грозные бороды и нечесаные головы, этот народ, прямо подставляющий неприятелю свои открытые груди» ( Фабер. С. 31).
695См. выше примеч. 654.
696К народам Севера г-жа де Сталь относила прежде всего англичан и во вторую очередь немцев; в изображении г-жи де Сталь поэзия северных народов меланхолична и «дружна с философией»; природа «туманного и сумрачного отечества», христианская религия, а в особенности протестантизм, который «не препятствует философическим изысканиям и блюдет чистоту нравов», «горестное ощущение неудовлетворенности своею судьбой», являющееся «источником всех великодушных порывов и всех философических идей», — все эти факторы располагают северных поэтов к размышлениям; напротив, южная поэзия «не только не располагает к размышлениям и не внушает, если можно так выразиться, прозрений, которые разум призван обосновать, — нет, эта сладострастная поэзия чуждается серьезных идей» ( О литературе. С. 186–191).
697В отдельном наброске «Москва» (см. примеч. 685) вместо «азиатскому» — «татарскому».
698Комментируемое определение Москвы запомнилось читателям г-жи де Сталь, которые, впрочем, охотно его оспаривали; см., например, у Вигеля: «Не знаю, почему госпожа Сталь называла Москву татарским Римом; гораздо справедливее и основательнее можно было назвать Казань татарскою Москвой» (Вигель Ф. Ф. Записки. М., 2000. С. 171). Полемику с этой точкой зрения см. также у Кюстина, который, впрочем, толкует высказывание Сталь неточно и пристрастно; описав обилие церквей в Москве, он замечает: «Должно быть, именно эта поэтическая картина внушила госпоже де Сталь восклицание: „Москва — это северный Рим!“ Восклицание не слишком справедливое, ибо между этими двумя городами нет решительно ничего общего! Москва приводит на память скорее Ниневию, Пальмиру, Вавилон, нежели шедевры европейского искусства, будь то творения языческие или христианские» ( Кюстин . С. 440). Кюстин объясняет «несправедливость» суждения своей предшественницы тем, что она, «попав в Россию, менее всего интересовалась этой страной», и пренебрегает вполне внятными доводами, с помощью которых Сталь обосновывает свою точку зрения. Во-первых, она сближает Москву и Рим как два города, которые пережили эпоху своего величия и отличительной чертой которых является соединение несоединимых элементов (см. примеч. 687); ср. описание Рима в «Коринне»: «Здесь [в Риме] мы находим поразительное смешение руин и величественных зданий, цветущих полей и пустырей» ( Коринна . С. 64); отзвуки этой трактовки различимы в стихотворении П. А. Вяземского <���«Из „Очерков Москвы“»> (1858): «Твердят: ты с Азией Европа, // Славянский и татарский Рим, // И то, что зрелось до потопа, // В тебе еще и ныне зрим. […] Здесь чудо — барские палаты // С гербом, где вписан знатный род; // Вблизи на курьих ножках хаты // И с огурцами огород» (Вяземский П. А. Стихотворения. Л., 1986. С. 350). Во-вторых, именуя Москву «азиатским Римом», Сталь подразумевает европеизированную, подражательную сторону русской (то есть, если употреблять традиционный для путешественников XVIII в. синоним, «татарской») архитектуры. Не случайно в «Путевом дневнике» фраза «Москва, азиатский и татарский Рим» повторена не только в записях, посвященных Москве ( Carnets . Р. 285), но и после описания петербургского Казанского собора — «церкви, выстроенной по римскому образцу, но меньших размеров» ( Carnets . Р. 325). Предположение комментаторов DAE- 1996 (р. 273), согласно которому во фразе г-жи де Сталь содержится намек на претензии Москвы стать «третьим Римом», представляется сомнительным, поскольку в XVIII в. доктрина монаха Филофея оставалась неизвестной не только в Европе, но даже в России; интерес к ней возник только в начале царствования Александра II (см.: По М. Изобретение концепции «Москва — Третий Рим» // Ab imperio. 2000. № 2. С. 61–86).
699Александр I покинул армию 6/18 июля 1812 г., подписав манифест о созыве народного ополчения, и направился из Полоцка в Москву, куда въехал в ночь с 11 / 23 на 12 / 24 июля и остановился в Кремле; наутро он вышел на Красное крыльцо и направился к Успенскому собору, сопровождаемый криками: «Веди нас, куда хочешь; веди нас, отец наш, умрем или победим!»
700Хотя Сталь именует место, где она побывала, арсеналом, посетила она не Арсенал, а Оружейную палату, ибо именно в этой царской сокровищнице хранились государственные регалии, посольские дары, редкие и драгоценные предметы. В частности, здесь был выставлен «престол царей Иоанна и Петра, сделанный в Гамбурге из цельного и прикладного серебра. […]…на отвале престола отверстие, завешенное сукном, вышитым золотом: полагают, что тут становилась царевна Софья» (Глинка С. Н. Путеводитель в Москве. М., 1824. С. 69). Что же касается лестницы, по которой всходил Александр, то это — Красное крыльцо Грановитой палаты, построенной в 1487–1491 гг. и служившей тронным залом московским правителям.
701В изданиях 1821 и 1904 гг. (DAE-1821. Р. 283 ;DAE-1904. Р. 306) в соответствующем месте по непонятной причине вместо Бэкингема назван Перси (Percy), которого комментаторы русских изданий 1991 и 1993 гг. совершенно безосновательно отождествляют с «Персеем, победителем Горгоны Медузы», хотя имя этого античного мифологического героя смотрится по меньшей мере странно рядом с именем реального французского воина Пьера Террайя, сеньора де Баярда (ок. 1475–1524), за свою легендарную храбрость получившего прозвище «рыцарь без страха и упрека». Если бы в тексте г-жи де Сталь в самом деле упоминался Percy, то речь, конечно же, шла бы не о герое античного мифа, а об английском полководце Генри Перси, первом графе Нортумберлендском (1342–1408). Но пикантность ситуации заключается в том, что на самом деле и в рукописи «Десяти лет», и в наброске «Москва» Сталь упоминает в этом месте вовсе не Перси, а другого, более известного англичанина — Бэкингема, причем его соседство с Баярдом заставляет предположить, что имеется в виду не всесильный министр Карла I, Джордж Вилльерс, первый герцог Бэкингем (1592–1628), известный современному читателю прежде всего по роману А. Дюма «Три мушкетера» и прославившийся более богатством и любовью к изящным искусствам, нежели храбростью, а Генри Стаффорд, герцог Бэкингем, казненный в 1483 г. Ричардом III, либо Эдуард Стаффорд, герцог Бэкингем, казненный в 1522 г. Генрихом VIII.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
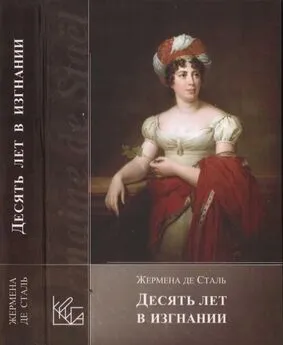
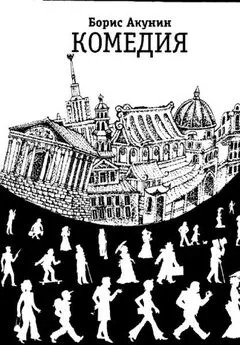

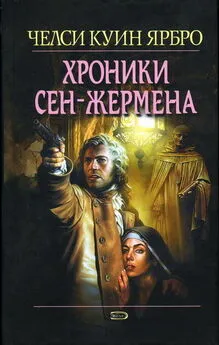
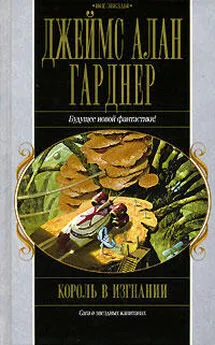
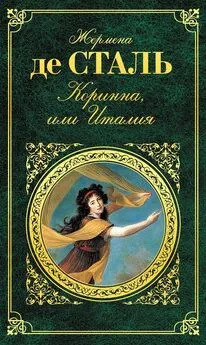
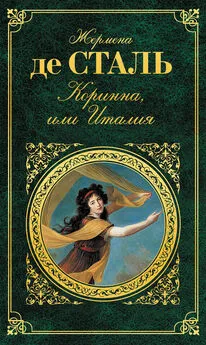
![Макс Мах - Эпоха мечей: Короли в изгнании. Времена не выбирают. Время жить, время умирать [сборник litres]](/books/1064131/maks-mah-epoha-mechej-koroli-v-izgnanii-vremena-n.webp)
