Жермена де Сталь - Десять лет в изгнании
- Название:Десять лет в изгнании
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Крига
- Год:2017
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-98456-060-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жермена де Сталь - Десять лет в изгнании краткое содержание
Перевод снабжен подробными комментариями, в которых не только разъясняются упомянутые в тексте реалии, но и восстанавливаются источники сведений г-жи де Сталь о России и круг ее русских знакомств.
Книга переведена и откомментирована ведущим научным сотрудником ИВГИ РГГУ Верой Аркадьевной Мильчиной.
Десять лет в изгнании - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
684Ниже Сталь вводит таким же образом цитату из Жозефа де Местра; это позволяет предположить, что и комментируемая фраза также принадлежит сардинскому посланнику в Петербурге (об их знакомстве со Сталь см. примеч. 722), однако приписывать ее Местру уверенно, безо всяких объяснений и ссылок, как это сделано в изд.: Местр. С. 57–58, оснований нет. Комментаторы DAE- 1996 (р. 271) предлагают помимо Местра другую возможную кандидатуру — А. В. Шлегеля (на том основании, что он переводил Шекспира на немецкий).
685Начиная с этой фразы для текста «Десяти лет» имеется вариант — отрывок «Москва» (см.: DAE-1996. Р. 519–522), отличающийся от основного текста лишь незначительными стилистическими разночтениями; наиболее существенные из них указаны ниже в примечаниях. В Москву г-жа де Сталь въехала 2 августа 1812 г. и оставалась там до 7 августа.
686Заблуждение, присущее не только г-же де Сталь; перенося впечатления от местности, окружающей Москву, на сам город, некоторые другие путешественники и до, и после нее также описывали его как плоскую равнину. Так, Шапп д’Отрош сообщает, что вся Россия, от Петербурга до Тобольска, представляет собой плоскую равнину и Москва, несмотря на имеющиеся в ней своего рода плоскогорья, не составляет исключения из общего правила ( Chappe. Т. 2. Р. 348). Граф Л.-Ф. де Сегюр пишет в «Мемуарах» (изд. 1824–1826) о «широкой равнине», посреди которой расположена Москва, а Д. Лескалье (1799), не усматривая в этом никакого противоречия, — о «широкой равнине, именуемой Тригоры, что означает „три горы“» (цит. по: Voyage. Р. 393, 391). Автор же, признающий за Москвой право не именоваться местом абсолютно плоским, спешит тотчас подчеркнуть, что хотя «место, где она выстроена, — едва ли не единственная возвышенность, какой может похвастать центр России», Москва, конечно же, «не Швейцария и не Италия, а просто пересеченная местность» ( Кюстин. С. 457–458).
687А. Л. Осповат ( Осповат. С. 477) предположил, что в этой фразе отразилась точка зрения Карамзина, запечатленная позже в его «Записке о московских достопамятностях» (1817), ав 1812 г. обсуждавшаяся им с г-жой де Сталь во время обеда у Ростопчина (см. ниже примеч. 716). Впрочем, поскольку общение с историографом, по-видимому, не произвело на г-жу де Сталь сильного впечатления, более вероятны в данном случае французские источники. Назовем, например, князя де Линя, который начинает письмо к маркизе де Куаньи из Москвы, включенное г-жой де Сталь в составленный ею сборник сочинений и писем де Линя 1809 г. (рус. пер. 1810), следующим восклицанием: «Сам ли я сказал или слышал от других, что город этот, в некоторых отношениях, как говорят, похожий на Испагань, еще больше напоминает соединение четырех или пяти сотен поместий знатных вельмож, которые водрузили свои деревни на колеса и съехались в одно место, да так все вместе и зажили» ( Ligne. Р. 521). В том же тоне (с упором на чрезвычайное многообразие и соединение несоединимых контрастов) изображена Москва и у Кокса: «Никогда еще не видел я города столь неправильного, столь необычайного, соединяющего в себе столько противоположностей. […] жалкие хижины соседствуют здесь с просторными дворцами; кирпичные дома обиты досками, деревянные же, напротив, выкрашены краской или снабжены железными дверями и крышами […] в этом огромном городе одни кварталы похожи на необитаемые пустыни, а другие — на цветущие города, населенные множеством людей; на одной улице вы чувствуете себя в глухой деревне, на другой — в великой столице. О Москве надобно вести речь как о таком городе, который сначала был выстроен в азиатском вкусе и лишь постепенно и понемногу сделался европейским. В нынешнем своем состоянии являет она диковинный пример этой разнообразной архитектуры» (Сохе. Т. 2. Р. 132). Ср. также у Фортиа де Пиля: «Поразительное зрелище представляют многие улицы, где полсотни скверных деревянных хижин, выдающих самую ужасную нищету, окружают огромный кирпичный дворец изысканной архитектуры, обличающий великое богатство» (Fortia . Т. 3. Р. 274) или у Д. Лескалье: «По размерам Москва превосходит Париж и Лондон, однако все это огромное пространство есть не что иное, как бесформенное нагромождение деревянных хижин, дурно выстроенных кирпичных и деревянных дворцов, развалин, садов, огородов, прудов, пастбищ и пустошей, а также огромного множества церквей» (цит. по: Voyage. Р. 388). Тот же мотив присутствует и в описаниях Москвы, опубликованных после смерти г-жи де Сталь, например в «Мемуарах» Л.-Ф. де Сегюра (1824): «…это соседство бедных хижин простонародья с богатыми купеческими домами и роскошными дворцами знати, это кипучее население, являющее собою смесь противоположных нравов и различных веков, диких народов и народов цивилизованных, европейских обществ и азиатских базаров, поражали и восхищали» (цит. по: Voyage. Р. 393) или в «Воспоминаниях» Э.-Л. Виже-Лебрен (1835–1837): «Поразительное зрелище являет собою это множество дворцов, общественных зданий прекрасной архитектуры, монастырей и церквей вперемешку с сельскими уголками» (цит. по: Voyage. Р. 397). Именно это смешение разнородных элементов — городских и деревенских, азиатских и европейских — в глазах приезжих иностранцев отличало Москву от «нормальных» европейских городов; см., например, описание Москвы у Леклерка: «Обширность Москвы имеет ту причину, что выстроена она не как Париж или Лондон; дома здесь все больше двухэтажные, при каждом просторный сад и большой двор, а стоят один от другого весьма далеко» (Leclerc. Т. 2. Р. 367). Схожее впечатление Москва произвела в 1812 г. на немецкого публициста Э. М. Арндта: «Мне сдавалось, что я в Азии. Нищета и великолепие, хижины и сараи не только в предместьях, но кое-где в середине города; при этом роскошь дворцов и садов, позлащенные куполы и башни церквей» (РА. 1871. Стлб. 087). Если в описаниях Петербурга, по наблюдению Л. В. Пумпянского, регулярно повторялась формула «Где прежде… там ныне…» (см.: Пумпянский Л. В. Классическая традиция. М., 2000. С. 161–169), то для Москвы такой формулой, по-видимому, следует считать конструкцию «И то… и то…», следы которой различимы и в Карамзинской «Записке» («смесь пышности с неопрятностию, огромного с мелким, древнего с новым, образования с грубостию» — Карамзин H. М. Записки старого московского жителя. М., 1988. С. 321). Можно предположить, что, называя Москву не городом, а целой провинцией (plutôt une province qu’une ville), Сталь подразумевала именно этот аспект. О восприятии Москвы см. также: Мартин А. Просвещенный метрополис: Созидание имперской Москвы, 1762–1855. М., 2015.
688Ср. в выписках из Левека ( Carnets. Р. 480): «Базар — собрание множества лавок в согласии с азиатскими обычаями, столь распространенными в России, говорит Левек» (у Левека: «Все лавки в Москве располагались в одной ограде, как они до сих пор располагаются и в других русских городах: обычай этот азиатский, как почти все древние русские обычаи» — Levesque-1800. Т. 3. Р 22); впоследствии Левек еще раз возвращается к этой мысли и поясняет, что это собрание лавок именовалось «гостиным двором, или даже, на восточный манер, базаром» (Ibid. Р 199–200).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
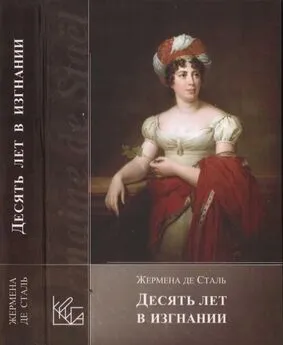
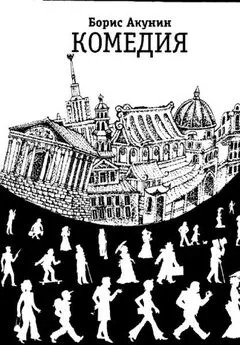

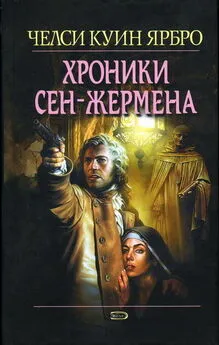
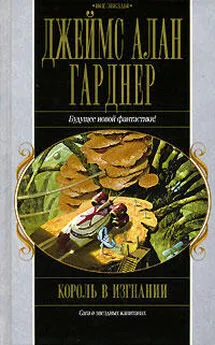
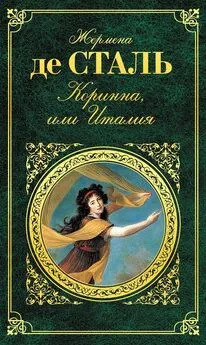
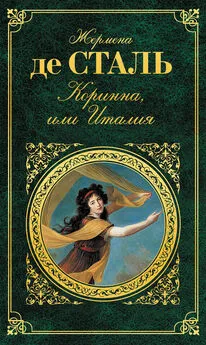
![Макс Мах - Эпоха мечей: Короли в изгнании. Времена не выбирают. Время жить, время умирать [сборник litres]](/books/1064131/maks-mah-epoha-mechej-koroli-v-izgnanii-vremena-n.webp)
