Жермена де Сталь - Десять лет в изгнании
- Название:Десять лет в изгнании
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Крига
- Год:2017
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-98456-060-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жермена де Сталь - Десять лет в изгнании краткое содержание
Перевод снабжен подробными комментариями, в которых не только разъясняются упомянутые в тексте реалии, но и восстанавливаются источники сведений г-жи де Сталь о России и круг ее русских знакомств.
Книга переведена и откомментирована ведущим научным сотрудником ИВГИ РГГУ Верой Аркадьевной Мильчиной.
Десять лет в изгнании - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
665Возможно, имеется в виду княгиня Елизавета Ипсиланти (урожд. Вакареско; 1770–1866), жена князя Константина Ипсиланти (ум. 1816), в прошлом господаря Молдавии и Валахии, который в 1806 г. бежал в Россию и жил в Киеве. Неясно, что имел в виду Пушкин, когда писал Вяземскому 27 мая / 8 июня 1826 г.: «Мы в сношениях с иностранцами не имеем ни гордости, ни стыда […] пред М-me de Staël заставляем Милорадовича отличаться в мазурке» ( Пушкин. T. XIII. С. 280). Современные комментаторы предполагают, что Пушкин «слышал об этой сценке на юге» (Переписка Пушкина. М., 1982. T. 1. С. 245), однако «Путевые дневники» г-жи де Сталь не содержат ни единого намека на посещение ею какого-либо бала в Киеве. Впоследствии Пушкин наделил сходным чувством героиню «Рославлева»: Полина точно так же негодует, наблюдая недостойное поведение русских дворян в присутствии славной французской писательницы.
666Тема жестокости русских правителей дебатировалась во французской прессе начала века в период антирусской пропагандистской кампании (см.: Corbet. Р. 47–56); см., например, характерное название вышедшего в 1802 г. памфлета республиканца Сильвена Марешаля «Преступления российских императоров». Как цепь преступлений и убийств русская история изображена и в одной из новейших французских книг, частично посвященных России, которыми располагала г-жа де Сталь, — «Истории анархии в Польше» (1807) К.-К. де Рюльера (см.: Rulhiere. T. 1. Р. 71–100).
667П. А. Вяземский в статье «Известие о жизни и стихотворениях Ивана Ивановича Дмитриева» (1823) цитирует эту мысль Сталь в связи со сценой боя Ермака с Мегмет-Кулом из поэмы Дмитриева «Ермак» и прибавляет: «Можно подумать, что она сделала это заключение, слушая стихи из упомянутого отрывка» (Вяземский П. А. Сочинения. М., 1982. Т. 2. С. 63).
668Судя по серому цвету одежды, казаки, встретившиеся г-же де Сталь, не входили в состав регулярных казачьих войск (у которых цвет форменной одежды был темно-синий) и либо принадлежали к числу резервных, то есть тех, которые, «состоя сверх положенного в каждом полку, предполагаются к зачислению […] взамен убылых людей», либо входили в состав ополчения. Резервные казаки носили чекмени (верхнюю одежду, присборенную у талии, без воротника) «из серого сукна с красною выпушкою и черной кожаной обшивкою», а казаки-ополченцы, согласно постановлению от 15 июля 1812 г., — «русские серые кафтаны из крестьянского сукна» (Висковатов А. В. Историческое описание одежды и вооружения российских войск. СПб., 1901. Ч. 18. С. 25, 49–50). Что касается головных уборов, то резервным казакам были предписаны «фуражные шапки из серого с околышем из синего сукна и с козырьком из черной кожи. При шапке полагались пришитые к ней и в случае надобности подбиравшиеся внутрь ее: серые суконные наушники и черный кожаный затыльник», а ополченцам — суконные фуражки такого фасона, «чтобы оную мог каждый во время холоду подвязывать сверх ушей под бородою». Впрочем, замечает Висковатов, «постановление сие [о форме одежды ополченцев] по случаю быстрого приближения неприятеля […] не могло быть исполнено в точности», поэтому ополченцы одевались «весьма разнообразно», и среди их головных уборов фигурировали «круглые поярковые шляпы», шляпы четырехугольные, а по большей части — «серые суконные шапки» (Там же. С. 50). В состав форменной одежды казаков входил также башлык — «съемный капюшон с двумя длинными концами, которые могут быть обмотаны вокруг шеи» ( Кирсанова Р. М. Костюм в русской художественной культуре XVIII — первой половины XX в. М., 1995. С. 32). Поскольку ружей на ополченцев не хватало, вооружены они были по преимуществу пиками, производившими сильное впечатление даже на европейских наблюдателей, куда более искушенных в военной науке, чем г-жа де Сталь; генерал Вильсон (см. примеч. 831) в донесении в Англию от 9 / 21 января 1813 г. писал о желательности введения пик, которыми пользуются русские казаки, в английской армии (см .: Дубровин. С. 445).
669Представления Сталь о казаках были, по-видимому, почерпнуты из литературных описаний: Левек писал о казаках, что они «так любили свободу, так ненавидели всякое принуждение, что не стали бы неволить себя даже ради собственной безопасности» ( Levesque. Т. 4. Р. 152–164); Кокс описывал «нерегулярное войско», составленное из людей, которые «испытывают отвращение к какому бы то ни было послушанию, отчего невозможно объединить их в эскадроны» ( Сохе. Т. 1. Р. 40–41). См. также подробное описание воинских талантов казаков, изначально приученных «к набегам и грабежу», у Массона ( Masson. Р. 299–321).
670Французы в это время вступили в Витебск (28 июля) и начали продвигаться к Смоленску. Вопрос о том, где находится французская армия, волновал г-жу де Сталь во время всей ее поездки по России; ср. воспоминание Д. П. Рунича о встрече с ней на середине пути между Москвой и Петербургом: Сталь обратилась к нему «с обычным в то время вопросом: что знают о Наполеоне и где он находится? И когда я ответил, что трудно определить, где он, что он везде и нигде, г-жа Сталь сказала: ах, милостивый государь, доныне он вполне доказал справедливость первого; императору Александру выпало на долю доказать второе» ( PC. 1901. № 3. С. 598–599).
671Гражданским губернатором Орловской губернии в 1812 г. был действительный статский советник Петр Иванович Яковлев (см.: Месяцеслов с росписью чиновных особ, или Общий штат Российской империи на лето от Рождества Христова 1812. Ч. 2. С. 168); Тульской губернии — тайный советник Николай Иванович Богданов (см.: Там же. С. 136; PC. 1889. Т. 64. № 11. С. 260). Чья именно супруга принимала Сталь «с шербетом и розами», сказать затруднительно.
672Образ фруктов, растущих в теплицах и не способных окончательно созреть (ср. у Сталь ниже: «Фрукты, которыми меня угощали, имели терпкий вкус, ибо созрели слишком быстро»), постоянно употреблялся в книгах о России как в прямом, так и в переносном, метафорическом смысле; об этом, например, говорится в одной из посвященных России глав книги «Философическая история обеих Индий» Рейналя (2-е изд. 1774); текст этот восходит к «Политическим фрагментам, извлеченным из портфеля одного философа» Дидро и был впервые обнародован в 1772 г. в «Литературной корреспонденции» Гримма (см.: Mirage. Р 165–166). Знаменитости, приглашенные в Россию из-за границы, именуются здесь «экзотическими растениями, которые погибнут в этой стране, как гибнут иностранные растения в наших теплицах». О распространении этого образа, восходящего к описанию фруктов в московских и петербургских теплицах в «Путешествии в Сибирь» (1768) Шаппа д’Отроша, и его философском подтексте — полемике с прославлением благородного и полезного насилия над природой, выразившемся, например, в вольтеровской апологии Петра I (о котором см. примеч. 708), см.: Goggi G. Alexandre Deleyre et le Voyage en Sibérie de Chappe d’Auteroche: la Russie, les pays du Nord et la question de la civilisation // Mirage. Р. 80–82. См. также оставшееся за пределами статьи Годжи использование этого образа Массоном в его полемике с А. фон Коцебу: «Весной в петербургском порту выгружают на берег множество ящиков с цветами и фруктовыми деревьями; богачи покупают их для украшения своих гостиных и садов, однако очень скоро они увядают навсегда, и разве назовет их кто-либо плодами русской земли?» (Masson-Lettres. P. 143–144).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
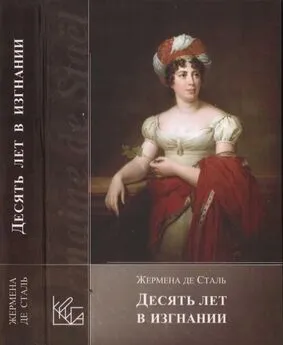
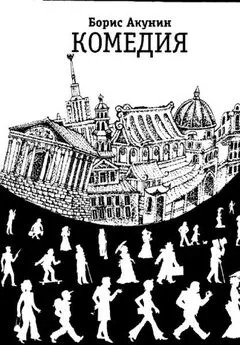

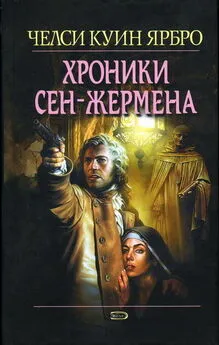
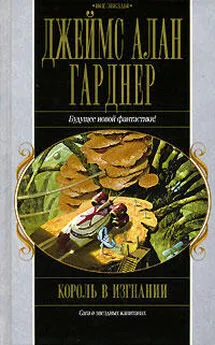
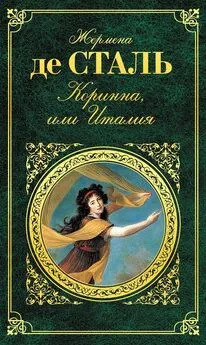
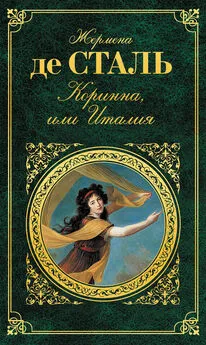
![Макс Мах - Эпоха мечей: Короли в изгнании. Времена не выбирают. Время жить, время умирать [сборник litres]](/books/1064131/maks-mah-epoha-mechej-koroli-v-izgnanii-vremena-n.webp)
