Жермена де Сталь - Десять лет в изгнании
- Название:Десять лет в изгнании
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Крига
- Год:2017
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-98456-060-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жермена де Сталь - Десять лет в изгнании краткое содержание
Перевод снабжен подробными комментариями, в которых не только разъясняются упомянутые в тексте реалии, но и восстанавливаются источники сведений г-жи де Сталь о России и круг ее русских знакомств.
Книга переведена и откомментирована ведущим научным сотрудником ИВГИ РГГУ Верой Аркадьевной Мильчиной.
Десять лет в изгнании - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
642В это время французы, через четыре дня после начала войны занявшие Вильну, уже захватили Минск и Борисов и подошли к укрепленному Дрисскому лагерю на реке Двине.
643Россия получила восточную часть Волыни в 1793 г. по второму разделу Польши, а западную — в 1795 г. по третьему разделу.
644Французские войска заняли Вильну 28 июня 1812 г. Посылая к Наполеону вечером 25 июня 1812 г. Александра Дмитриевича Балашова (1770–1837), Александр I мотивировал это следующим образом: «Я не ожидаю от сей посылки прекращения войны, но пусть же будет известно Европе и послужит новым доказательством, что начинаем ее не мы» (Дубровин. С. 15). Балашов, с июля 1810 по март 1812 г. занимавший должности министра полиции и петербургского военного губернатора, 28 марта / 9 апреля 1812 г. был от этих должностей уволен и отправился в Вильну к армии за императором, при котором с 25 июня / 7 июля по 4 / 16 июля состоял для особых поручений (см.: Шилов. С. 62); тем не менее в глазах общества он все равно оставался министром полиции; ср. свидетельство осведомленной современницы, В. И. Бакуниной (жены петербургского гражданского губернатора М. М. Бакунина): «Государь, прибыв сюда в июле, считается в походе еще поныне, 1 октября; не принимает министров: кроме военного и морского нет докладных дней для прочих; по сей самой причине Балашов ничего не делает, хотя называется министром полиции и здешним военным губернатором. Вязмитинов правит обеими должностями» ( Бакунина . С. 408). Балашов прибыл с письмом от Александра в ставку Наполеона в окрестностях Вильны 26 июня; до 30 июня он ждал ответа Наполеона на привезенное им письмо Александра, а 1 июля утром в Вильне был принят Наполеоном. С французским императором он беседовал дважды: утром, а затем вечером за обедом; его записка, посвященная этому эпизоду, была впервые опубликована частично в 1859 г. (см.: Богданович. T. 1. С. 138–145); полный французский текст см.: Tatistcheff. Р. 592–609; рус. пер.: Дубровин. С. 14–31. Ниже Сталь воспроизводит два фрагмента беседы Наполеона с Балашовым: один (о поляках) весьма неточно, второй (о Москве и религии) — почти дословно, за исключением числа церквей в Москве (см. подробнее примеч. 649). Беседа Балашова с Наполеоном была предметом обсуждения русских людей (см. примеч. 650) и иностранных дипломатов; см., в частности, донесение сардинского посла Жозефа де Местра, в котором, впрочем, подчеркнуты иные темы, также затрагивавшиеся в этой беседе: упреки Наполеона Александру в неумении воевать и в том, что он ведет войну вопреки желанию народа ( Maistre. Т. 12. Р. 150; ср.: Местр. С. 209). О содержании беседы Сталь могла слышать в московских или петербургских салонах либо находясь в Стокгольме — от Бернадота или его окружения; в пользу последней версии свидетельствует то, что в «Путевом дневнике», куда Сталь вносила записи, еще находясь в России, беседа Балашова с Наполеоном резюмирована гораздо более коротко и менее точно: «Император сказал г-ну Бада [sic!]: „Я знаю, что подвергаю себя величайшим опасностям, но я привык искушать судьбу из- за пустяков. Турция никогда не подпишет мира, я захвачу ее, лишь только захочу“» ( Carnets. Р. 288); вопрос о Турции обсуждался в связи с недавно заключенным Бухарестским мирным договором (см. примеч. 605), подробности которого Наполеон пытался выяснить у Балашова.
645Ср. свидетельство Фуше, согласно которому французы были убеждены, что «война с Россией была развязана из-за сахара и кофе» (Fouché J. Mémoires. P, 1993. P. 276). При всей шаржированности этого утверждения экономическую подоплеку франко-русского конфликта оно описывает довольно точно. С 1809 г. Наполеон стал выдавать так называемые лицензии (licences) «разным лицам для вывоза французских товаров в Англию или куда они хотят, с разрешением ввезти за это на ту же сумму колониальных товаров» ( Тарле Е. В. Континентальная блокада: Исследования по истории промышленности и внешней торговли Франции в эпоху Наполеона. М., 1913. С. 492). Выдавая лицензии, Наполеон допускал «прямое отступление в свою пользу от принципов континентальной блокады», что, естественно, вызывало недовольство Александра I, который постоянно обсуждал эту тему с французским послом Коленкуром; в одной из таких бесед, состоявшейся 7 декабря 1810 г., русский император сказал: «Будем говорить откровенно. Какова для Франции цель принимаемых вами мер? Иметь ей одной выгоды от торговли колониальными товарами, иметь монополию этой торговли. Я этому не противлюсь, я не мешаюсь в то, что происходит у других. Пусть так действуют и относительно меня. Почему бы я не имел права получать сахар от американцев, когда за ту или иную пошлину вы позволяете у себя и у других потреблять продукты ваших и даже чужих колоний?» (цит. по: Тарле Е. В. Указ. соч. С. 493–494). Ответом Александра на действия Наполеона стало введение указом от 19 / 31 декабря 1810 г. запретительного таможенного тарифа на товары, ввозимые по суше (то есть по преимуществу французские); формально указ не нарушал континентальную блокаду и английские товары подлежали конфискации, однако торговля с Америкой при этом допускалась; все это было крайне невыгодно для Франции и послужило одной из причин резкого охлаждения в отношениях с русским императором.
64620 октября 1809 г., в ходе подготовки франко-русской конвенции о судьбе герцогства Варшавского, заключенной 4 января 1810 г., Жан-Батист де Номпер де Шампаньи, герцог Кадорский (1756–1834), министр иностранных дел Франции с 9 августа 1807 по 16 апреля 1811 г., адресовал канцлеру Н. П. Румянцеву письмо, где объяснял, почему Варшавскому герцогству была передана большая часть Галиции, и заверял, что Наполеон не намерен восстанавливать Польшу. «Его Величество, — писал Шампаньи, — с одобрением относится к тому, чтобы слова „Польша“ и „поляки“ исчезли не только из всех политических актов, но даже из истории» ( ВПР . Т. 5. С. 680; см. также: Соловьев С. М. Сочинения. М., 1996. Т. 17. С. 382–393). Информация г-жи де Сталь об этом письме восходила, по всей вероятности, к устным источникам; во всяком случае, Шатобриан в биографии Наполеона, приведя со ссылкой на Сталь фразы о «поляках-якобинцах» и о письме Шампаньи, замечает: «Благодаря своим высокопоставленным друзьям г-жа де Сталь была прекрасно осведомлена обо всем, что делалось в правительстве» ( Chateaubriand . Т. 1. Р. 1247). Впрочем, министр внутренних дел Монталиве и сам Наполеон дали сходные обещания относительно судьбы Польши в речах перед Законодательным корпусом 1 и 3 декабря 1810 г. (см.: Tatistcheff. Р. 513–514). Если в том, что касается письма Шампаньи, информация Сталь очень точна, то в беседе Наполеона с Балашовым польская тема, судя по докладу самого Балашова, была затронута в совершенно ином ключе. Наполеон не только не выказал безразличия к судьбе поляков, но, напротив, отозвался о них крайне лестно: «Мой Бог, что за народ эти поляки, какой неистовый энтузиазм их воодушевляет, они, я вас уверяю, сражаются, как львы, и нет ничего в мире, на что они бы не пошли ради возвращения своего старинного отечества» ( Дубровин. С. 22).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
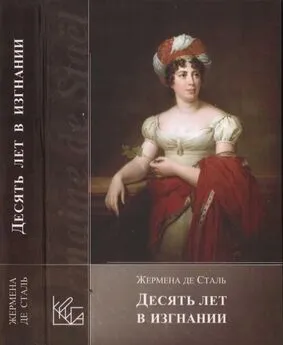
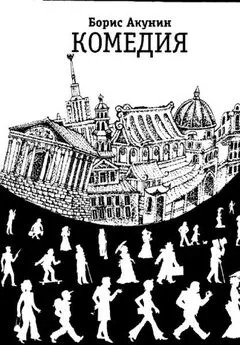

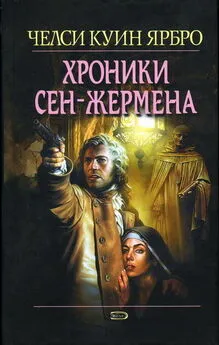
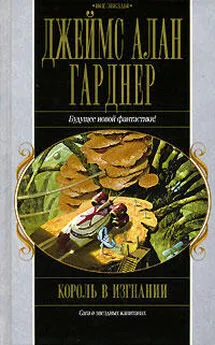
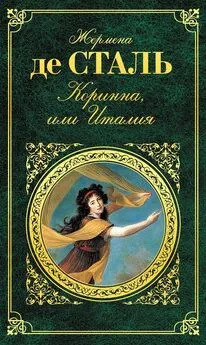
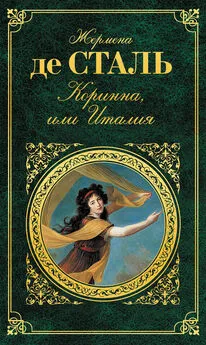
![Макс Мах - Эпоха мечей: Короли в изгнании. Времена не выбирают. Время жить, время умирать [сборник litres]](/books/1064131/maks-mah-epoha-mechej-koroli-v-izgnanii-vremena-n.webp)
