Жермена де Сталь - Десять лет в изгнании
- Название:Десять лет в изгнании
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Крига
- Год:2017
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-98456-060-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жермена де Сталь - Десять лет в изгнании краткое содержание
Перевод снабжен подробными комментариями, в которых не только разъясняются упомянутые в тексте реалии, но и восстанавливаются источники сведений г-жи де Сталь о России и круг ее русских знакомств.
Книга переведена и откомментирована ведущим научным сотрудником ИВГИ РГГУ Верой Аркадьевной Мильчиной.
Десять лет в изгнании - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
849В Або г-жа де Сталь прибыла 15 сентября 1812 г. и покинула этот город на следующий день.
850Ср. обсуждение связи между северным климатом и интеллектуальными способностями северных народов у предшественников Сталь. В «Истории обеих Индий» (кн. 19) Рейналя высказано сомнение в том, что цивилизация способна развиваться в холодном климате России: «Разве в течение исключительно долгих зим, приостанавливающих работу на семь или восемь месяцев в году, нация не впадает в оцепенение, не предается игре, пьянству, распутству?» (цит. по: Raynal. Т. 10. Р. 39). Во французском переводе «Путешествия» Кокса соотношение северного климата и состояния цивилизации становится предметом дискуссии между автором и переводчиком. Сам Кокс замечает, что «интеллектуальные способности» жителей России ограничивает отнюдь не только суровый климат и что гораздо большее влияние оказывают «государственное устройство, религия и, главное, полное закрепощение крестьян»; на это его французский переводчик П.-А. Малле (см. примеч. 840) отвечает пространным полемическим примечанием, логика которого имеет немало общего с логикой Сталь: «В том, что климат не оказывает непосредственного влияния на ум человеческий, что северяне обладают от рождения мозгом столь же совершенным, сколь и люди, обитающие в климате более теплом, и что им свойственны познания столь же обширные, сколь и южанам, усомниться невозможно, однако не менее очевидно, что влияние сурового климата на северные нации носит, если можно так выразиться, характер опосредованный , а именно: по вине этого климата они медленнее приобщаются к цивилизации и просвещению и, имея изначально те же способности, меньше преуспевают в науках, особливо же в тех, которые зависят по преимуществу от вкуса и воображения. В самом деле, на севере люди живут более обособленно, нрав у них более замкнутый, они имеют меньше случаев видеться и беседовать, они беднее, у них больше потребностей и меньше досуга. […] Им труднее бывать в свете, обитать в огромных городах. У них часто идут дожди, небо затянуто тучами, длинные и суровые зимы прерывают всякое сообщение, а долгие ночи оставляют мало времени для занятий; все это неминуемо замедляет развитие наук и искусств» ( Сохе. Т. 2. Р. 13).
851Сталь сожалела не только о южном солнце, но даже о северном Петербурге, который на фоне провинциального Або казался ей настоящей столицей; ср. письмо к Галифу от 16 сентября из Або: «Как бы хотела я оказаться в Петербурге — отъезд свой я почитаю настоящим подвигом материнской любви. […] Я хотела бы знать все, что происходит в Петербурге, тогда я могла бы воображать, будто я все еще там» ( Galiffe . Р. 317; одной из причин отъезда было желание определить Альбера в шведскую службу).
852Представления, восходящие к поэмам Оссиана и переводам из «Эдды», выполненным Малле (см. примеч. II и 840).
853Страницы «Десяти лет», посвященные Финляндии, вызвали бурную полемику в русской прессе в 1825 г. Текст, начиная с фразы «При въезде в Финляндию» и кончая финалом данного абзаца, был переведен «довольно тяжелою прозою» ( Пушкин. T. XI. С. 27) Александром Алексеевичем Мухановым (1800–1834), который в 1823–1825 гг. служил адъютантом командира Отдельного Финляндского корпуса А. А. Закревского, и опубликован в «Сыне Отечества» (1825. № 10. С. 151–157) вместе со статьей, в которой Муханов предъявил г-же де Сталь несколько претензий как общего, так и частного свойства. Пожары, по мнению Муханова, происходят в Финляндии не от ветра или случайности: «дешевизна или вовсе ничтожная ценность лесов Финляндии заставляют хлебопашцев пожигать участками леса свои для расчищения и распашки полей». Утверждать, что жителям Финляндии «не о чем говорить и нечего делать», неверно: «самое географическое положение края делает финляндцев народом деятельным […] Финляндия пользуется всеми выгодами береговых промыслов (cabotage), предохраняющих ее от бездействия»; наконец, «соседство волков и медведей» отнюдь не препятствует «развитию просвещения», иначе пришлось бы предположить, что четыре сотни студентов, учащихся в Абовском университете, «готовят себя в звероловы». Однако Муханов не ограничивается этими частными замечаниями. Оскорбленный в своем русском и северном патриотизме, он упрекает Сталь в недооценке русской Финляндии с ее «горделивыми памятниками дерзкой отваги русских» (Свеаборгская крепость), а главное, в пренебрежении северной природой: «Я не проникнут до души, как г- жа де Сталь, лучами юга, а принадлежу к числу тех людей, которым не удалось еще погреться на полуденном солнце, и это может быть естественною причиною, что нам доступнее суровые наслаждения северной природы. Да и почему, восхищаясь небом Рима и Венеции, должно непременно растаять в знойном восторге и презирать торжественное явление природы полуночной?» Иначе говоря, Муханов истолковал «Десять лет» не как сочинение автобиографическое, а как идеологический и эстетический манифест, сравнимый с ОГ, и, естественно, попрекнул Сталь отказом от ее же собственных убеждений (превознесенная г-жою де Сталь Германия, пишет он, также покрыта необозримыми лесами, а между тем «где успехи умственных усовершенствований могут быть ощутительнее»?). Впрочем, в других случаях Муханов, наоборот, игнорирует переносный, «теоретический» смысл текста Сталь; привидения и призраки, о которых она упоминает, — принадлежность северных мифов, а вовсе не реальность финского пейзажа, однако критик, не желая этого замечать, спешит упрекнуть писательницу в трусости: «Наконец от страха, наведенного на робкую душу нашей барыни, ей чудятся среди бела дня привидения, которые она видит за себя и за других в одно время, и мертвецы выходят из хладной своей обители даже не в условное время!»
Однако читателей статьи Муханова возмутило не только и не столько конкретное содержание его замечаний, сколько недопустимый тон и уподобление книги Сталь «пошлому пустомельству тех щепетильных французиков, которые немного времени тому назад» являлись в Россию «со скудным запасом сведений и богатыми надеждами», а также именование ее «барыней». В таком тоне, пишет П. И. Шаликов, вообще большой поклонник творчества Сталь (см.: Заборов. С. 201), учтивому мужчине непозволительно обращаться к даме вообще, а к «женщине, уваженной целым светом», к «сочинительнице Коринны и книги О Германии» тем более (Дамский журнал. 1825. Ч. 11 № 13. С. 29–31; цензурное разрешение 1/13 июня 1825 г.).
Одновременно нарушением общественных и литературных приличий в статье Муханова возмутился Пушкин в статье «О г-же Сталь и о г. А. М-ве», датированной 9/21 июня 1825 г. (с репликой Шаликова Пушкин, находившийся в Михайловском, по всей вероятности, познакомиться к этому времени еще не успел): «Что за слог и что за тон! […] что есть общего между щепетильными (?) французиками и дочерью Неккера, гонимою Наполеоном и покровительствуемою великодушием русского императора? […] О сей барыне должно было говорить языком вежливого образованного человека. Эту барыню удостоил Наполеон гонения, монархи доверенности, Европа своего уважения, а г. А. М. журнальной статейки не весьма острой и весьма неприличной» ( Пушкин . T. XI. С. 28; курсив Пушкина; статья увидела свет в «Московском телеграфе», 1825. Ч. 3. № 12). Однако Пушкина возмутило не только нарушение литературного этикета. По всей вероятности, нападки Муханова именно на «Десять лет в изгнании» показались ему особенно неуместными потому, что если тон Муханова был неприличен, сама Сталь лучше всех прочих иностранных путешественников угадала тот тон, в каком прилично писать об увиденной чужой стране. Пушкин с одобрением отмечает «благодарность и доброжелательство, водившие пером сочинительницы», «снисходительность», «уважение и скромность» разговора, нежелание «выносить сор из избы». Книга Сталь не раз оказывалась близка собственным пушкинским размышлениям (см. примеч. 551, 557, 680, 694, 704, 741, 761, 772, 812); вероятно, так произошло в этом случае; не случайно именно в ходе обсуждения статьи Муханова Пушкин восклицает в письме к Вяземскому от 15 сентября 1825 г.: «M-me Staël наша — не тронь ее» ( Пушкин. T. XIII. С. 227). Через год после написания заметки о Муханове, 27 мая 1826 г., Пушкин признается в известном письме к Вяземскому: «Я, конечно, презираю отечество мое с ног до головы — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство» ( Пушкин. T. XIII. С. 280); по всей видимости, в лице Сталь Пушкин видел редкий образец иностранного автора, занимающего иную — благородную и «приличную» — позицию. Характерно, что непосредственно перед процитированной фразой в письме упоминается г-жа де Сталь и эпизод с Милорадовичем, «отличающимся в мазурке», — впрочем, в книге отсутствующий (см. примеч. 665). Среди причин сочувствия Пушкина г-же де Сталь как автору «Десяти лет в изгнании» следует назвать и сознание общности их судьбы: Пушкин пишет заметку о «ссыльной» г-же де Сталь, сам находясь в ссылке (см.: Вольперт Л. И. Пушкин и г-жа де Сталь // Французский ежегодник-1972. М., 1974. С. 301); ср. сходное ощущение у П. А. Вяземского, отставленного от службы в Варшаве и читающего «Десять лет в изгнании» в своем подмосковном имении Остафьево: «очень любопытно и занимательно и сродно для меня, ссылочного» (Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899. Т. 2. С. 216). В новейшей статье (см.: Калашников М. В. Дмитрий Блудов и Жермена де Сталь // Россия и Франция XVIII–XX века. Вып. 7. М., 2006. С. 98 и след.) высказано предположение, что цитирование Пушкиным в статье «О г-же Сталь и о г. А. М-ве» слов, сказанных о Сталь «в одной рукописи» («…можно видеть ясно, что, тронутая ласковым приемом русских бояр, она не высказала всего, что бросалось ей в глаза»), — не просто литературный прием, позволяющий приписать собственные авторские мысли неким неназванным лицам, и что истинным автором «одной рукописи» был Д. Н. Блудов. Однако ни одного прямого доказательства этого предположения (не говоря уже о тексте этой рукописи) в статье Калашникова не предъявлено, между тем сходные случаи приписывания своих мыслей третьим лицам в творчестве Пушкина известны и подробно проанализированы (см., например: Вацуро В. Э. «Великий меланхолик» // Вацуро В. Э. Записки комментатора. СПб., 1994. С. 313–345). Поэтому нам остается присоединиться к мнению Б. В. Томашевского, видевшего в ссылке на «одну рукопись» не более чем «невинную литературную мистификацию» ( Томашевский . С. 84), и С. Н. Дурылина, который также был уверен, что автором цитаты из «одной рукописи» был сам Пушкин ( Дурылин. С. 317).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
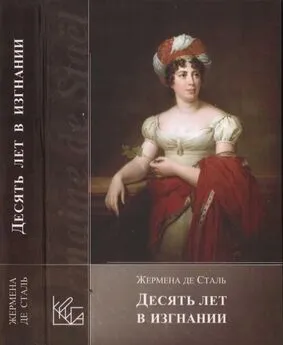
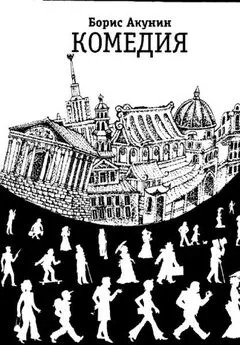

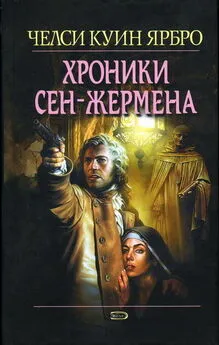
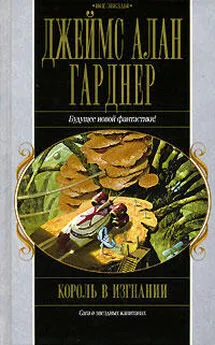
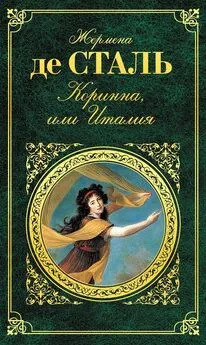
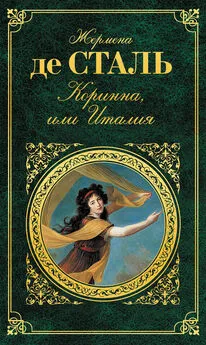
![Макс Мах - Эпоха мечей: Короли в изгнании. Времена не выбирают. Время жить, время умирать [сборник litres]](/books/1064131/maks-mah-epoha-mechej-koroli-v-izgnanii-vremena-n.webp)
