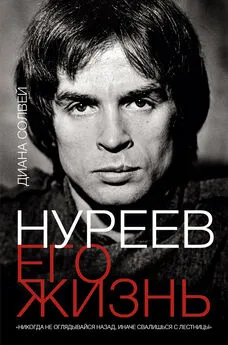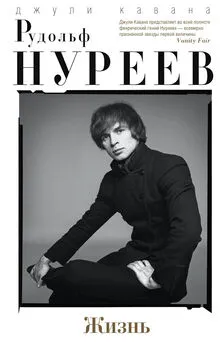Джули Кавана - Рудольф Нуреев. Жизнь [litres]
- Название:Рудольф Нуреев. Жизнь [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Центрполиграф ООО
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-227-08673-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Джули Кавана - Рудольф Нуреев. Жизнь [litres] краткое содержание
Рудольф Нуреев. Жизнь [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Хотя до его лондонского дебюта в «Жизели» оставалось лишь несколько недель, Рудольф полетел в Копенгаген, чтобы побыть с Эриком и воспользоваться возможностью еще более глубокого погружения в роль. Эрик, которого на Западе считали «единственным и неповторимым Альбертом», всегда считал, что с возрастом и с опытом точность погружения в роль возрастает: «В более зрелом возрасте лучше понимаешь, как поступит юнец». А его вера в то, что «без стоящей за всем главной мысли невозможно передать движение», породило убеждение Рудольфа: для каждого па и жеста должна быть причина. «Без этого не может быть правды – иначе зрители и остальные сразу поймут, что это неправильно». Однако Эрик, на которого давили его близкие, в тот период не способен был оказать Рудольфу такую необходимую ему поддержку. «Прости, если я недостаточно тебе помогал, – писал он позже. – Неприятно видеть, как ты расстроен, это обижает и тебя, и меня». Тогда Эрику самому нужна была поддержка Рудольфа, а не наоборот. Уже довольно давно он пребывал в состоянии крайней усталости и утратил цель в жизни. Утешение не приносил даже балет. «Но я видел проблеск красоты и любви и верю в нее, я знаю, что она существует… Ты дал мне больше надежды и больше веры во всех отношениях, и красоту тоже».
Когда они вместе гуляли по берегу озера в Гентофте, каждый ощущал такую цельность – «своего рода гипнотическую, физическую, глубоко эротическую любовь», – которую никто из них не находил прежде. И конечно, после отъезда Рудольфа утром 7 февраля Эрик почувствовал себя брошенным. «Наступил вечер, и мне кажется, что внутри меня большая дыра, которую заполняешь ты, когда мы вместе… Если сможешь и будешь способен подождать меня, хотя сейчас я должен быть здесь, мне будет здесь гораздо легче. Ты в моем сердце, в моей душе и в каждой клеточке моего тела».
На следующий день он написал снова:
«Мой малыш Рудик!
Не знаю, почему я называю тебя «малышом» – ты не «малыш», но и не старый, просто это кажется мне милым и выражает что-то мое по отношению к тебе, что хорошо… Я смотрю на телефон, хочу, чтобы он зазвонил, хочу услышать твой голос и сказать тебе, что… возможность быть с тобой сейчас, сию секунду значит для меня больше, чем что бы то ни было, чем нынешний мир способен мне предложить… Ты тайна моей жизни, тайна, которая рано или поздно проявится… парадокс, но это правда».
23 июня Рудольф, обещавший Марго, что вернется к премьере «Лебединого озера», сидел в ложе Нинетт де Валуа, готовясь посмотреть спектакль. «И вдруг я вижу нечто необычайное… после встречи принца с Одеттой начинается пантомима… они начинают жестикулировать. Для меня это стало огромным потрясением». В такой же ужас он пришел во время генеральной репетиции «Жизели», когда понял, что в редакции Ковент-Гардена сохранили долгий пантомимический монолог Берты, матери героини. Она с помощью жестов передает старинную легенду о вилисах – безжалостных духах брошенных девушек, которые в полночь встают из могил и до смерти затанцовывают любого встреченного ими мужчину. Создавая фон для второго действия, этот долгий монолог, хотя и входит в оригинальное либретто и, если хорошо его исполнить, может быть по-настоящему страшным, не только перебивает течение танца, но и практически останавливает первое действие. «В некоторых театрах на юге России тоже это есть… По-моему, в этом нет никакой необходимости».
Подобно монологу Одетты о заколдованных девушках-лебедях, который очень не нравился Рудольфу, миманс Берты в редакции Кировского театра опускался, так как эти куски не представляли интереса для зрителей, в основном знавших либретто. «На Западе используют старую пантомиму… В России она тоже была, но о ней постепенно забывают под огромным влиянием Станиславского», – говорил Рудольф Клайву Барнсу, который в длинной статье, где он критиковал «Жизель» в версии «Королевского балета», тоже заметил, что русские и датчане давно забросили «высокопарный Мариинский стиль пантомимы, который мы столь ревностно сохраняем».
Западный классический репертуар был основан на нотах с примечаниями, которые в 1918 г. тайно вывез из России главный режиссер Императорского балета Николай Сергеев, ученик Петипа и Иванова. В 1930-х гг. Сергеев обеднел и жил в Париже, «одинокий маленький человек со своими огромными томами». Де Валуа пригласила его в Лондон и предложила ставить в ее труппе классику Мариинки. Примечания, сделанные к партитурам, с которыми работал Сергеев, – в некоторых случаях всего лишь наброски – дают лишь приблизительное представление о тех или иных па; в них выпущены важные нюансы для верхней части туловища. Поэтому некоторые сольные партии становятся механическими. Тем не менее «Лебединое» в версии Ковент-Гардена оказалось ближе всего к оригинальной трактовке, что, по мнению Рудольфа, служило скорее недостатком, чем достоинством. «С тех пор, как Сергеев приехал в Англию и показал ту версию, в русском балете давно произошла революция».
Хотя на Западе Николая Сергеева почитали, в России его давно опровергли. Таким «диссидентам», как Михаил Фокин, который покинул труппу, чтобы вступить в дягилевское содружество артистов, режим Сергеева виделся застойным, авторитарным и враждебным всяким переменам. Блестящий хореограф, чьи идеи были такими же революционными и влиятельными, как идеи Жана-Жоржа Новерра, французского теоретика, жившего на сто лет раньше, Фокин стремился избавить искусство от надоевших заученных комбинаций. В своем знаменитом письме в The Times он очертил свои принципы реформы: свобода выбора в вопросах темы, музыки и костюмов; выразительная пластика всего тела; отказ от побочной пантомимы. В Ленинградском училище Рудольф жадно читал сочинения Фокина по теории балета, соглашался с его мыслями и другими предлагаемыми Фокиным новшествами (в первую очередь с повышением статуса танцовщика от простого носильщика балерины до равного партнера). Поэтому, когда он впервые увидел в Ковент-Гардене «Жар-птицу», он не поверил, что это произведение одного и того же человека. «Фокин говорил, что… он борется против пантомимы, [но] много глупой пантомимы на протяжении всего спектакля. Я пришел в ужас».
Рудольф принадлежал к тому поколению, которое не только получило преимущества от «нового балета» Фокина (его небалетная пластичность, навеянная Айседорой Дункан, легла в основу учения Вагановой), но было также знакомо с более радикальными подходами к хореографии. Еще больше противоречащий классике и во многом экспериментальный «Послеполуденный отдых фавна» Нижинского 1912 г. был поистине архаическим; его смысл сводился к суровым, ритуальным формам. Это был модернизм в его самом бескомпромиссном виде – «революция в балете», как выразился Рудольф, – а также полное отрицание виртуозности и личностности Императорского балета. В то же время, помня еще со времен Уфы, что Петипа – «король балетов», Рудольф по-прежнему считал классику Мариинки своим истинным наследием. Ему казалось, что отдельные произведения следует сохранять, но не бальзамировать, ведь за сто лет техника танцовщиков и их физические данные так резко изменились!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Джули Кавана - Рудольф Нуреев. Жизнь [litres]](/books/1066260/dzhuli-kavana-rudolf-nureev-zhizn-litres.webp)
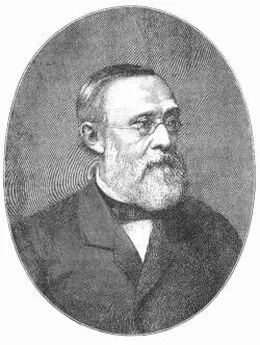
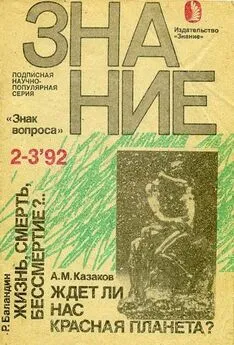
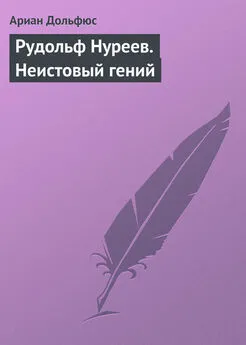
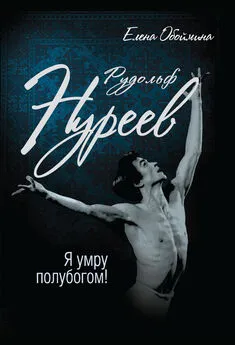
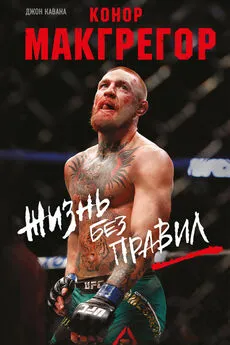
![Джули Кэплин - Маленькое кафе в Копенгагене [litres]](/books/1064371/dzhuli-keplin-malenkoe-kafe-v-kopengagene-litres.webp)
![Джули Кэплин - Маленькая кондитерская в Бруклине [litres]](/books/1064748/dzhuli-keplin-malenkaya-konditerskaya-v-brukline-li.webp)
![Джули Си Дао - Лес тысячи фонариков [litres]](/books/1093751/dzhuli-si-dao-les-tysyachi-fonarikov-litres.webp)