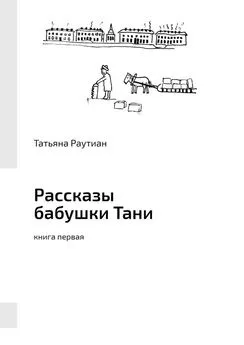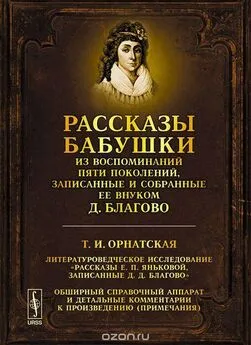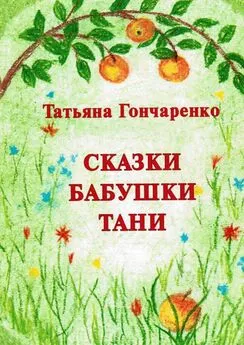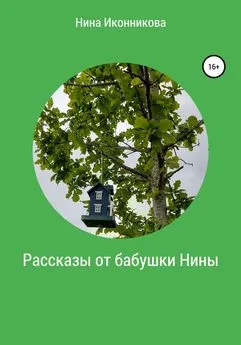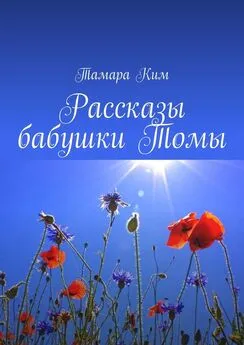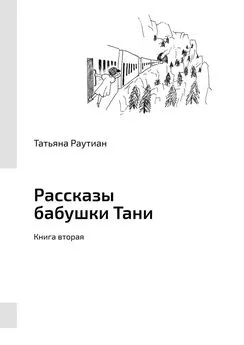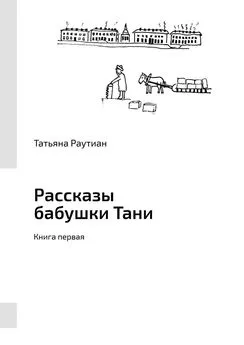Татьяна Раутиан - Рассказы бабушки Тани
- Название:Рассказы бабушки Тани
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Татьяна Раутиан - Рассказы бабушки Тани краткое содержание
В оформлении использованы рисунки автора.
Рассказы бабушки Тани - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Большая корова, «симментальская». Белая с желтыми пятнами, вымя огромное, она за один раз ведро молока дает. Вот это да! На всю нашу ораву на целый день хватит и еще осталось бы.
Конь-тяжеловоз. Большущий, ну прямо как слон. Ноги крепкие, лохматые. Такой конь может целый груженый вагон с места сдвинуть. Он стоит себе спокойно. На голове у него мешок подвешен с ячменем. Удобно — ни тебе тарелок, ни вилок. Ни за стол садиться, ни к земле наклоняться не надо. Ни на кого внимания не обращает. Знай жует. Спина у него широкая, как стол.
У цирковых лошадей такие бывают: на них акробаты вспрыгивают, танцуют там, прыгают, даже по двое, а конь бежит себе и не замечает, наверное, что у него на спине что-то шевелится. Силища!
Но прекраснее всех был другой конь — серый «в яблоках». Хвост длинный, белый, шелковистый, грива тоже шелковистая, белая, блестит. Этот уж не стоит спокойно. Куда там! От его уздечки на все четыре стороны шли четыре крепкие веревки, привязанные к четырем столбам. Так что голова этого коня была все время на одном месте. Зато туловище и ноги могли двигаться. Он все время «плясал», этот конь. Очень ему надоело тут стоять. Вырваться бы на волю и побегать! Красавец… Глаз не оторвать!
Второй голос
Большой базар бывал по выходным. Но начинался он накануне вечером, когда съезжались селяне. Это называлось пидторжья.
Сумерки. Волы медленно бредут по нашей улице, тащат за собой огромные телеги, полные всякой всячины. Хохлы лежат на телегах и поют:
«Йихалы козаки
Из Дону до дому,
Пидманулы Галю —
Забралы с собою».
Галя — это вовсе не Галина. Это Анна. Потому что по-украински — Ганна.
«Пойихалы, Галю,
З намы, козакамы.
Краще тоби буде,
Ниж у ридной мамы».
В тихом вечернем воздухе ясно звучат их голоса. Песни протяжные, красивые, не похожи на русские. Несколько песен запомнились — мы и сами их потом пели. «Галю» и еще «Орел сизокрылый »:
«А-а-а, ты орел
Си-и-изокры-ылай
Ой да скажи пра-а-вдоньку,
Де-е-еж мiй мы-ылай.
А-а твiй мы-ылай
На-а-а работi,
Ой, да на лiте-е-ей-
ному-у заво-одi…»
Поют на два голоса. Мы никогда так не пели. Второй голос как-то получается из первого. Какое-то должно быть правило, как спеть вторым голосом, если слышала только первый. Я старалась подпевать вторым голосом. Иногда получалось.
И сама не понимаю, как это получилось. Что это за правило такое? Как второй голос устроен? А ты — понимаешь? Если учился музыке, то, наверное, знаешь… Хорошо тебе! А я хоть и начала учиться музыке, но до второго голоса так и не дошла.
Скрипачка недоученная
Папа очень хотел, чтобы мы учились музыке. Ну а я — старшая. Все такие задумки начинаются со старших. Вот один раз папа привел меня в дом на нашей улице. Там жил учитель музыки. И они договорились, что я буду приходить к этому учителю три раза в шестидневку. Тогда «недель» не было, а были «шестидневки». Пять дней работать, шестой — выходной.
Папа купил мне скрипочку, и я начала учиться. Как называются ноты, и как их надо писать, и где нажимать пальцем, чтоб получился правильный звук. И я стала играть гаммы. До-ре-ми-фа-соль-ля-си и обратно.
Учитель был очень мрачный. Как будто он ничего и никого не любит. Ни учеников, ни музыку. Я не то чтобы его боялась, но как-то было неуютно. Хотелось скорее начать играть музыку, это все-таки приятнее. А гаммы мне казались такими же мрачными, как этот учитель. И когда он давал мне домашнее задание играть гаммы — я стала играть песни. У нас была такая книжка, песенник. Там были и слова, и ноты. Я уже знала ноты и стала играть эти песни.
Но потом мы вернулись в Ленинград, и уроки кончились. От них осталась только фотография.
Школа
Первое время в Изюме мы ходили в школу «в город». Потому что мы жили у завода, и считалось, что город Изюм там уже кончался. Хотя он не кончался.
До школы было два километра. Там я училась в третьем и в четвертом классе. Больше всего мне нравилась арифметика. Сначала мы выучили таблицу умножения. Учительница давала пример, и кто знает ответ — поднимал руку. Почти все поднимали руки, всем хотелось, чтобы их вызвали.
Потом появились другие примеры. Нам учительница рассказала волшебное секретное правило. Оно — для случаев, когда какое-нибудь число, которое кончается на 5, умножаем само на себя. Неважно, что впереди, но сзади должно быть 5. Чтобы получить ответ, надо то, что впереди, умножить на число, которое больше на единицу. А потом приписать 25.
Например, если 15 — то впереди, перед пятеркой, стоит единица. Ее надо умножить — на сколько? Правильно, на 2. Значит, у нас получилось 2, и теперь надо к этой двойке приписать 25. Что вышло? 225. А если число 35? Тогда надо 3 умножить на 4. Получилось 12. И опять приписать 25. Сколько вышло? 1225. Ясно. Всегда в конце приписывать 25.
Это получилось как игра. Учительница задает число, которое надо умножить само на себя. Например, 55. Все хотят сосчитать первыми. Кто сосчитал в уме — подымает руку:
— 3025!
— А теперь 105!
— 11025!
Очень это были веселые уроки. Я потом всех взрослых спрашивала — знают ли они такое правило? Никто на свете этого правила не знает — только мы, ученики четвертого класса городской Изюмской школы!
Жирафа
Я всегда была самая высокая в классе. В третьем и особенно в четвертом классе стали меня дразнить:
— Эй, Жирафа!
— Жирафа, Жирафа, Жирафа!!!
Я даже плакала. Но мальчишки только пуще меня дразнили. Я рассказала маме. И она говорит:
— Ты сердишься, вот они и дразнят. Ведь этого им и надо. Если бы ты не обращала никакого внимания, им неинтересно было бы зря дразниться. Вот попробуй — сама увидишь.
И я решила попробовать. Стала сама рисовать на доске жирафу. Очень здорово научилась их рисовать. Когда меня звали: «Эй, Жирафа!» — я откликалась спокойно, как будто это мое имя.
И скоро перестали меня дразнить. Действительно, дразнить стало неинтересно.
Покойники вылезают из могил…
В школу и из школы можно было идти прямо по улице, потом свернуть на другую улицу. А можно наискосок, через кладбище. Это ближе. Но через кладбище. Но ближе. Это хорошо, если днем, когда светло. А зимой день короткий, и мы идем домой уже в темноте. Все боятся идти через кладбище. А чего боятся — и сами не знают. Придумывают разные ужасы. Например:
— Поко-о-ойники… вылеза-а-ают… из моги-и-ил…
Я говорю:
— Какие покойники? Не могут они вылезать!
— А вот слабо тебе пойти!
— А вот и не слабо.
— Слабо, слабо!
Теперь уже невозможно мне было не пойти через кладбище. В темноте. Пошла. И что интересно — и правда было почему-то страшновато. Зима, белый снег, узкая тропинка. И снег таинственно скрипит под ногами. Кажется, что сзади, в темноте, кто-то черный крадется. А его в темноте не видно. Я же понимаю, что это просто черные стволы деревьев, а никакие не мертвецы, я же понимаю, что бояться нечего и даже глупо. Но все же почему-то страшновато. И если бы поверить, что и на самом деле вылезают какие-то покойники, то может показаться, что они и вправду вылезают. Или пускай не покойники — а бандиты. Кажется, ну только кажется, что кто-то там, сзади, крадется. Я шла и говорила самой себе, что я никаких глупостей не боюсь. И вовсе мне не слабо.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: