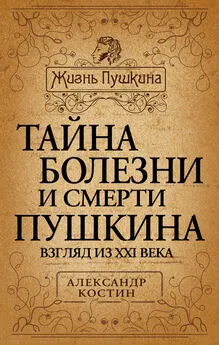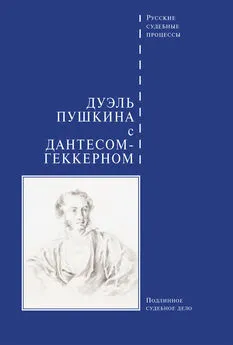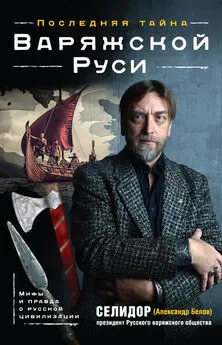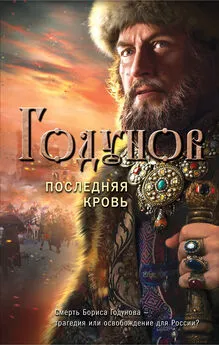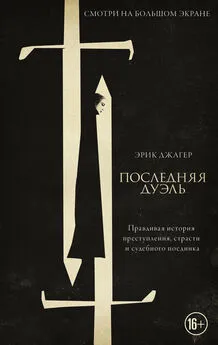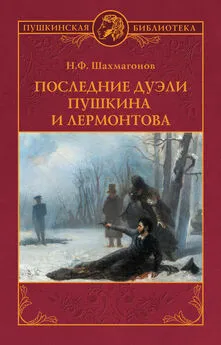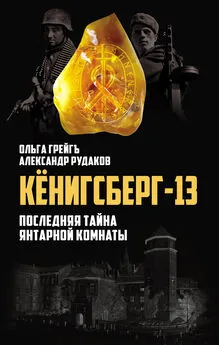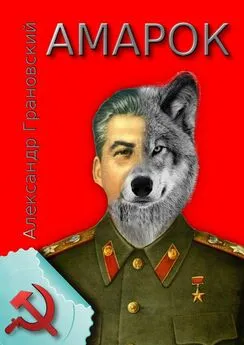Александр Александров - Известный аноним [Последняя дуэль А. С. Пушкина]
- Название:Известный аноним [Последняя дуэль А. С. Пушкина]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:grandbadger.livejournal.com
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Александров - Известный аноним [Последняя дуэль А. С. Пушкина] краткое содержание
Замечание второе: никто и никогда не будет знать всей правды той осени и зимы, ставших последними для Пушкина...Я изучил этих версий множество, от вполне стройных до шизофренического бреда. Я долго не мог решить для себя, как именно развивалась дуэльная история, буквально выучив все известные факты и детали наизусть, но что-то мешало мне, так и слышался голос Станиславского, который нашептывал в уши: не верю! Профессионалы и дилетанты пушкиноведения натоптали, как мыши, дорожки, с которых никогда не сворачивали, они не замечали очевидное, что находилось у них перед глазами
Автор
Известный аноним [Последняя дуэль А. С. Пушкина] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
На самом деле цитата не мнимая, источник ее мною найден. Их даже два. И мы не знаем, каким из них пользовался Пушкин. Сам он ссылается на Священное писание, ибо имя государственного преступника В. К. Кюхельбекера, от которого и пришла к Пушкину эта мысль, было под запретом.
Поэт В. К. Кюхельбекер, лицейский друг Пушкина, Кюхельбекер, десять лет проведший в одиночных камерах крепостей Шлиссельбурга, Динабурга, Свеаборга, с 1836 года находился в Сибири на поселении. По возможности он переписывался с Пушкиным, который иногда получал письма с оказией, в чем ему даже приходилось оправдываться перед III-им отделением и лично перед А. Х. Бенкендорфом. Поэму «Зоровавель», скорее всего в составе «Русского Декамерона 1831 года», Пушкин получил в 1832 году, о чем свидетельствует запись в дневнике самого Кюхельбекера: «21 июля. «Зоровавель» мой в руках Пушкина». [74] В. К. Кюхельбекер. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979. С.161.
. Однако Пушкин решает издать эту поэму только теперь, укрывшись под именем издателя И. Иванова. Четыре года маленькая книжица, размером в 82 странички, лежала у него, за это время, на полтора года раньше, с разрешения III-го отделения, он издал также анонимно поэму друга «Ижорский».
Пушкин только что закончил первую часть «Капитанской дочки», и около 27‑го сентября 1836 года он обращается к цензору П. А. Корсакову со следующий письмом:
«Милостивый государь,
Пётр Александрович,
Некогда, при первых моих шагах на поприще литературы, Вы подали мне дружескую руку. Ныне осмеливаюсь прибегнуть снова к Вашему снисходительному покровительству.
Вы один у нас умели сочетать щекотливую должность ценсора с чувством литератора (лучших, не нынешних времен). Знаю как Вы обременены занятиями: мне совестно Вас утруждать; но к Вам одному можем мы прибегнуть с полной доверенностию, и с искренним уважением к Вашему окончательному решению. Пеняйте ж сами на себя.
Осмелюсь препроводить на разрешение к Вам тайну моего имени.
С глубочайшим почтением и совершенной преданностию честь имею быть
Милостивый государь
Вашим покорнейшим слугою
А. Пушкин». [75] ПСС. XVI. С. 161–162.
.
Петр Александрович Корсаков был человек замечательный, писатель, переводчик, он знал хорошо восемь европейских языков, в молодости служил при миссии в Голландии, изучил голландский язык и литературу, уже после смерти Пушкина в 1838 году выпустил «Очерки голландской литературы». Литераторы цензора П. А. Корсакова любили. Поэт Н. В. Кукольник писал о нем «Ни один из лучших писателей наших не имел ничтожного случая пожаловаться на его несправедливость». Даже скандальный Ф. В. Булгарин, вечно ссорившийся с цензорами, писал цензору Никитенко в 1844 году: «После смерти П. А. Корсакова — вы остались один человек в цензуре». [76] Цит по кн.: Цит. по кн.: А. С. Пушкин. Письма последних лет. 1834–1837. С. 325.
. В 1817 году он издавал «Северный наблюдатель», где напечатал стихотворения лицеиста Пушкина. Пушкин учился в Лицее с его братом Николенькой Корсаковым, умершим в двадцатом году в Италии и похороненным во Флоренции. О нем строки Пушкина в знаменитом стихотворении «19 октября», написанном в 1825 году в Михайловском, которые, безусловно, знал старший брат:
Я пью один, и на брегах Невы
Меня друзья сегодня именуют…
Но многие ль и там из вас пируют?
Еще кого не досчитались вы?
Кто изменил пленительной привычке?
Кого от вас увлек холодный свет?
Чей глас умолк на братской перекличке?
Кто не пришел? Кого меж нами нет?
Он не пришел, кудрявый наш певец,
С огнем в очах, с гитарой сладкогласной:
Под миртами Италии прекрасной
Он тихо спит, и дружеский резец
Не начертал над русскою могилой
Слов несколько на языке родном,
Чтоб некогда нашел привет унылый
Сын севера, бродя в краю чужом.
На следующий день П. А. Корсаков отвечал Пушкину:
«Милостивый государь
Александр Сергеевич!
Приятно мне было видеть из лестного письма вашего, что вы не забыли старинного и всегдашнего почитателя вашей музы. Печатая ваши первые стихи в журнале моем, я гордился мыслию, что гениальный поэт, долженствовавший прославить имя свое и русскую словесность, избрал меня и журнал мой орудием обобщения своего с отечественными читателями. Не одна дружба ваша к покойному брату Николаю, — сознание гениальности вашей — заставляла меня радоваться вашим успехам. После этого, можете посудить, с каким удовольствием получил я вверенное цензуре моей ваше новое произведение! С каким наслаждением я прочел его! Или нет; не прочел, — проглотил его! Нетерпеливо жду последующих глав… Теперь вот в чем дело: вы желаете сохранить аноним, я не изменю вашей тайне; но мне нужно чье — нибудь имя для записания его comme votre homme de paille (в качестве подставного лица — фр.) в регистры комитетские; или лучше сказать, — нужно лицо представителя манускрипта. Потрудитесь же сказать мне его имя; а оно должно быть невымышленное: ибо цезура, допуская псевдонимы и анонимы авторов, должна непременно знать, кем именно сочинение неизвестного представляется цензору. Это одна просьба; а вот другая. Мне хотелось бы увидеться лично с вами и перемолвить несколько слов — о паре слов вашего прелестного романа, который я без малейшего затруднения хоть сей час готов подписать и дозволить к печатанию. Назначьте же час и место свидания: у меня или у вас? Хотя времени у меня весьма мало; но вы — должны быть исключением из общего правила.
Благоволите почтить ответом вашим нелестного почитателя и всегда вам
милостивый государь
готового на услуги
П. Корсаков.
28 сентября 1836.» [77] ПСС. XVI. С. 162–163.
.
Как видите, Пушкин обратился по адресу, но дело было не в «Капитанской дочке», которую он закончил только 19 октября 1836 года, о чем свидетельствует поставленная им дата.
Пушкин издал «Капитанскую дочку» в № 4 своего журнала «Современник», отдельное издание ему было не нужно до появления повести в своем
издании. Так для чего же он обратился к Корсакову так рано. Дело было не в «Капитанской дочке», надо было восстановить дружеские отношения с Корсаковым, самым доброжелательным цензором того времени, обаять его, наконец, встретиться, о чем попросил сам цензор и уже в конфиденциальной беседе договориться об издании «Русского Декамерона». В качестве поставного лица, нужного для издания, как мы знаем из письма Корсакова, он пригласил двадцатичетырехлетнего Сергея Николаевича Дирина, переводчика, помощника редактора «Журнала мануфактур и торговли», дальнего родственника В. К. Кюхельбекера, который получал в III-м отделении письма Кюхельбекера к родным и показывал их Пушкину, поскольку в каждом из них упоминалось его имя. И. И. Панаев пишет, что «Дирин был в восхищении от приемов Пушкина, от его приветливости и внимательности». «Через несколько лет после смерти Дирина, — вспоминает Панаев, — я как — то завел речь об нем и об его отношениях к Пушкину с П. А. Плетневым.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Александр Александров - Известный аноним [Последняя дуэль А. С. Пушкина]](/books/1071719/aleksandr-aleksandrov-izvestnyj-anonim-poslednyaya.webp)