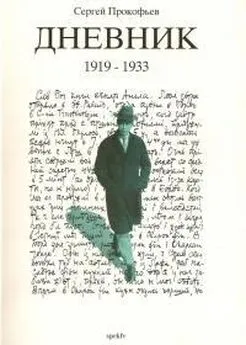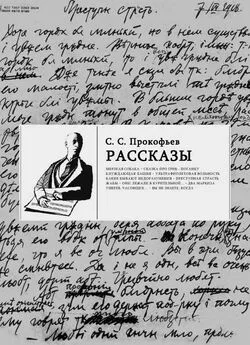Сергей Прокофьев - Дневник 1919 - 1933
- Название:Дневник 1919 - 1933
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:SPRKFV
- Год:2002
- Город:Paris
- ISBN:2-9518138-1-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Прокофьев - Дневник 1919 - 1933 краткое содержание
Дневник 1919 - 1933 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Встретив Асафьева, рассказываю ему про козни Хаиса. Асафьев волнуется:
- Как патриот своего города, я возмущён. Надо с ним поговорить.
Держановский сообщает, что могу идти в зал, так как концерт начинается с «Еврейской увертюры», после которой поёт певица, а я играю только потом.
Зал не очень большой, но набит до отказа. Пока я иду через него, все аплодируют, когда я наконец сажусь на единственный оставленный мне стул в первом ряду, на эстраде появляется Сараджев и говорит мне речь. Я волнуюсь, но всё же замечаю, что цитату о Гансе Заксе, ввёрнутую Сараджевым, он переврал. После окончания речи - вторая овация. Затем исполняют «Еврейскую увертюру», у фортепиано - директор Консерватории Игумнов. Так как я сижу в первом ряду, то звук не сливается, и я не получаю удовольствия от исполнения. По окончании увертюры Игумнов спускается в зал, несколько человек пересаживаются, и он садится на освободившийся стул рядом со мной.
Игумнов довольно занятная личность, длинный, бритый, нервный, с торчащими изо рта остатками зубов. Мне интересно на него посмотреть, так как уже лет двадцать, как я про него слышу, ещё с тех пор, как я гостил в Сухуме у Смецких.
Затем появляется певица, которая, волнуясь, поёт мои романсы - первые два плохо, третий довольно своеобразно.
Далее моя очередь. Я вылезаю на эстраду, играю 3-ю и 5-ю Сонаты и «Токкату». Рояль крикливый и плохой: Держановский в выборе не отличился. Я играл со средним спокойствием, а в 3-й Сонате совершенно непонятным образом замечтался и остановился. Впрочем, сейчас же спохватился и дальше дело пошло без ляпсусов. После аплодисментов сыграл на бис «Гавот», Оп.32. После окончания спускаюсь с эстрады, толкотня невероятная, все ко мне подходят: тут и Игумнов, и инспектор Консерватории, вручающий мне книгу, в которой есть обо мне статья, и старый Юргенсон, когда-то громовержец, а теперь служащий небольшим чиновником в Музсекторе, который занимает его же собственный магазин. В толкотне Юргенсон успевает сказать мне, что он позвонит ко мне и зайдёт, чтобы поговорить. Таким образом, вопрос, который Мясковский находил таким щекотливым, по-видимому, сам собой идёт к разрешению. Подходит Б.Б. Красин. Он уже звонил ко мне, но подвернувшийся к телефону Цейтлин ответил, что меня нет дома. Красин связан с Росфилом, враждующим с Персимфансом, а потому Це-Це всячески ограждали меня от него. Учитывая это и помня, что полтора года назад Красин был со мной чрезвычайно любезен в Париже, я на этот раз встречаю его с подчёркнутой внимательностью. Появились снова Костя и Шура Сеженские. Пташка находит Костю трогательным, а Шуру противной, но Шура успевает обмолвиться, что у неё остались кое-какие фотографии моих родителей - и Пташка настораживается. Дело в том, что все мои семейные фотографии погибли вместе с петербургской квартирой, и теперь Пташка задалась собрать у моих родственников и знакомых то, что у них сохранилось в альбомах. Я расспрашиваю у Шуры, что сталось с другими моими московскими племянницами и племянниками. Как-никак, у отца была сестра, у неё четыре дочери, мои кузины, а у четырёх этих кузин - несметное количество потомства, двоюродных братьев и сестёр этой Шуры. Но Шура говорит, что они распались и она большинство из них потеряла из виду, чем я, впрочем, мало огорчён, так как в большинстве случаев это был народ довольно серый. Наиболее интересная из племянниц, Надя Фалеева, заделалась драматической артисткой и гастролирует где-то в провинции.
Публика начинает расходиться, так как надо пробираться в другое учреждение, где будет ужин. Одеваемся и идём в находящийся по соседству клуб - для улучшения быта учёных, как раз то самое Цекубу, благодаря которому Держановский сохранил любимую комнату. Это огромный особняк, принадлежавший старой одинокой генеральше, умершей с наступлением большевизма. Цуккер не выпускает случая, чтобы указать, что, вот, в старые времена такую махину занимала одинокая старуха, которая, может быть, из комнаты в комнату не могла передвинуться, а теперь это достояние писателей и учёных, которые могут чествовать в нём Прокофьева.
В огромной зале поставлена целая серия длинных столов, на которых накрыт ужин. Я сижу между Асафьевым и Е.В. Держановской. Пташка - рядом с Мясковским. Тут же за столом Персимфансы. Яворский, кое-кто из молодых композиторов. Тосты, фотографии. Держановский старается сниматься около Лины Ивановны. Вообще он. Мосолов и другая молодёжь всячески за нею ухаживают. После нескольких тостов мне начинают намекать, что и я должен бы сказать что-нибудь. Я всячески отворачиваюсь, но чувствую, что говорить в конце концов надо, и потому встаю. В зале быстро водворяется тишина, возгласы удовлетворения «А!» Словом, ждут от меня многого. Но за кого и за что пить? Я догадываюсь выпить за музыкальную Москву, которую особенно научился ценить после всех моих шатаний по белу свету. Пью, аплодируют, хотя, по-видимому, ждали, что я скажу что-нибудь сложнее и цветистее. Позднее я перехожу к другому столу, за которым собрались все молодые композиторы и к которому уже присоединились Мясковский, Асафьев и Беляев. Нас снимают всех вместе, и я выхожу невероятной рожей. Вообще же мне оказывается столько внимания, что я совершенно ошеломлён отношением ко мне. Сообщают, что в «Вечерней Москве» появилась первая рецензия, которая отмечает политическую важность моего приезда. В час ночи я вдребезги измучен и, хотя пиршество, по-видимому, склонно продолжаться, мы с Пташкой решили бежать. Уходим под аплодисменты всего зала. Внизу меня ловит Костя Сеженский. Он, оказывается, тоже принял участие в ужине, но сидел где-то далеко за пальмой, так что я его не видел. Он, по-видимому, опьянел от вина и от оваций по адресу дядюшки, и в нелепых и восторженных выражениях просит автограф на экземпляр 3-й Сонаты.
Наш номер тихий и спокойный, и после вчерашних торжеств мы порядочно проспали. Звонил Цейтлин и сообщил, что они приступили к репетиции второй программы, в том числе «Увертюры для семнадцати инструментов». Я решаю, однако эту репетицию проспать: пусть немножко разберутся без меня. На мой вопрос, какое впечатление производит увертюра. Цейтлин мялся и начинал хвалить другие вещи. Вероятно, не разобрались ещё, или не привыкли к новой звучности, или просто скрипач Цейтлин, которого в этой пьесе обошли, не чувствует себя особо заинтересованным.
Использовал остаток утра и часть дня на то, чтобы хорошенько поиграть на рояле. А то в самом деле, когда надо быть во всеоружии, то как раз приходится заниматься всем чем угодно, кроме фортепиано. Погода смягчилась. На улице мягко и приятно. Завтракали с Пташкой вдвоём. С изумлением рассматривали царские орлы на Иверских воротах. Говорят, их оставили за невозможностью снять, не изуродовав здания, а кроме того, «советская власть так сильна, что несколько орлов её не поколеблют, хотя бы и в коронах».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: