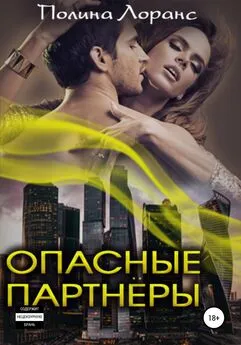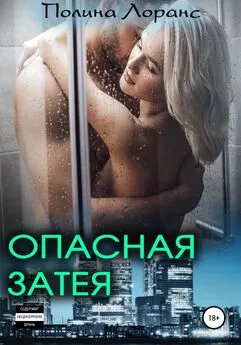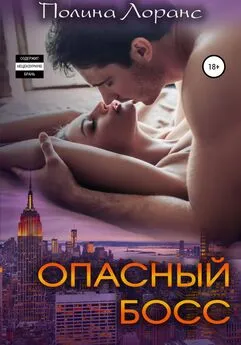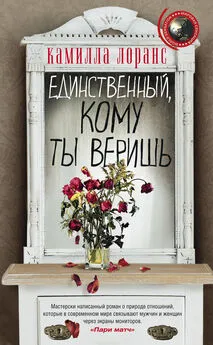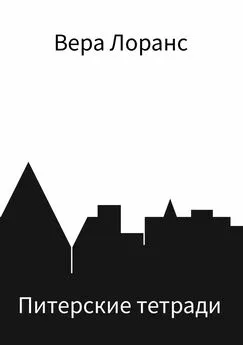Лоранс Скифано - Висконти: обнаженная жизнь
- Название:Висконти: обнаженная жизнь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Rosebud Publishing
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:9-785-905712-05-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лоранс Скифано - Висконти: обнаженная жизнь краткое содержание
Висконти: обнаженная жизнь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Почти неуловимое чудо висконтиевской творческой манеры: эта искомая действенность кинематографического движения, объединяющего движение актера, движение камеры и постепенное затемнение кадра, заполненного отворачивающимся человеческим лицом. На соединении всех этих элементов построен и план из „Туманных звезд Большой Медведицы“, в эпизоде дарения сада Валь-Луццати муниципалитету Вольтерры, когда Сандра (Клаудиа Кардинале) догадывается о том, что ее отчим виновен в депортации ее отца. Каждый портрет героя у Висконти согласован с драматическим напряжением момента, сцены, характера, с его простотой или — чаще — с его двойственностью. Он очень точно просчитывает меру в создании атмосферы, музыки, драматического действия. И в точности реплик, то туманных, то неистовых, содержательная наполненность которых, кажется, порождена самой окружающей обстановкой, с дистанцией и тайной.
Спустя более чем двадцать лет, в теме, по общему мнению, абсолютно неотделимой от него самого — в „Людвиге“, а потом и в „Семейном портрете в интерьере“, — к той же творческой дистанции и технической смелости присоединяется и хищная сила оптического зума. Мишель Шион, отмечая в 1985 году свободу панорамирования, „перетекающего с одного персонажа на другой“, и „оптического зума — наездов и отъездов камеры и изменений угла съемки по логике подчас неуловимой раскадровки“, подчеркивает то, что сам он определяет как выражение желания, якобы составляющего самую суть искусства Висконти — „патетичного и ненасытного желания быть полотном живописца […] эту невозможность создать базовый образ семьи, фронтальный и окончательный, дабы обрести в нем свое собственное место…“
Далеко от реальной оценки Висконти общее мнение критики, что чрезмерное использования оптического зума еще с „Туманных звезд Большой Медведицы“ 1964 года повергает в растерянность. Глаубер Роша даже несколько злорадствует: „Слабость картины „Посторонний“ (1967) всех озадачила: маэстро доказал, что отверг свой собственный идеал, предпочтя ему смесь оптического наезда с экзистенциализмом“. Быстрый наезд на зеркало мы можем отметить уже в „Рокко и его братьях“, в „Туманных звездах Большой Медведицы“ (1964) он используется уже патологически часто»… Может быть, оптический наезд и казался чем-то патологическим для приверженцев народно-национального кинематографа, ярким представителем которого является верный ученик Лукино Франческо Рози. Для Висконти, который часто называл Годара «поверхностным умником», оптический наезд был разумной встряской, «прорехой в том полотне провинциальных мифов, которое и зовется итальянской культурой». Пазолини увидит в этих наездах огромную уступку современности. Но Висконти еще с 60-х годов не запрещал самому себе посматривать и на современность (начало «Туманных звезд…» в известной степени напоминает первые эпизоды «Маленького солдата»); а главное — оптический наезд для Висконти выступает средством, которое согласуется с его сознательным, «агрессивным отношением к реальности» и с частым обращением к драматургии взгляда, достигающим кульминации в «Гибели богов» и «Смерти в Венеции».
С точки зрения Глаубера Роши, эти раскритикованные оптические наезды — признак того, что происходит «здоровое» расставание и с традициями итальянской живописи, и с перспективистской стабильностью гуманизма. Висконти навязывает эти наезды вопреки суждениям коллег, более авторитетных в техническом плане. Джузеппе Ротунно рассказывал мне, как он противился прямолинейности и резкости в характере Висконти: «Его манера была немного рваной, мучительной, он был склонен к перегибам». Прославленный оператор противопоставляет неистовую мощь висконтиевского видения той незаметной, естественной манере, с какой доносит свое видение, «не меняя объектива», Феллини: «Федерико делает это так, что никто не замечает». Ротунно настаивает на том, что оптический наезд у Висконти — это что-то вроде протеза, особенно, по его словам, «в те времена, когда он был парализован». Глаубер Роша, напротив, воспринимает его как суровый и эффективный способ создать и подчеркнуть дистанцию: «Висконти принадлежит к временам fiction и потому-то именно зум дает ему возможность изобразить примитивный, преступный, романтичный облик нацистов с той мощью, на которую способно кино».
Сегодня Оливье Асеайяе видит в этой почти что осязаемой манере съемки — словно бы «резкими движениями, касаниями», диссонансно — творческий почерк Висконти, его изысканную и брутальную современность. Этот почерк включал в себя и чувственную, романтическую драматургию. Но этот же почерк подразумевает и неравновесия в сюжете, и порывистые движения камеры, и сверхкрупные планы, и отступления от гомогенной структуры фильма; камео, ценные как ностальгические воспоминания (короткие появления матери — Доминик Санда, и жены — Клаудиа Кардинале — в «Семейном портрете в интерьере»). К этому почерку можно отнести и более драматичные разрывы единой повествовательной ткани, подчеркиваемые топографически, архитектурно и словно оркестрованные самой сложной и чувственной музыкой, какая только существует, с ее быстрыми взлетами и падениями — музыкой Малера и Вагнера.
То, что пишет Антониони о необыкновенной современности картины «Земля дрожит», можно с полным правом отнести ко всему творчеству Висконти. Музыка в «Земле» также обретает свое особое место, и это подчеркивает режиссер из Феррары: «Тайну его поэзии следует искать во всем том, что он в нас пробуждает, из этого надо извлечь вибрации поверхности, в целом все то, что он отражает инстинктивно, алогично, бессознательно. Кто знаком с Висконти, тот знает, что его дела несравненно больше, чем его слова, и бесконечно сильнее выражают его суть. Вот они — его дела, в упомянутых сценах, голосах и шумах отплывающих ловить рыбу, когда наступает ночь, в песнях каменщиков, бледном свете бури, в переливах голоса младшей сестры и в напряженном силуэте старшей […] и еще во множестве моментов, в которых, при всей их социальной полемичности, поэтический голос Лукино Висконти звучит ясно и искренне». Поэзия и музыка, всегда, как и у Годара, рождающиеся из интереса к простым предметам, деталям, движениям, живым людям. «Он всегда исходит из подлинных вещей, полных смысла, — замечает о его театральной работе Джерардо Геррьери, — даже маски в „Свадьбе Фигаро“ были настоящими, подлинными, в них была заключена частичка духа этого времени. Здания Нового Орлеана тоже настоящие, и очень быстро становятся для героев воплощением и прошлого, и новых возможностей».
Почему Висконти иногда неудобен, почему сегодня не знают, куда его определить и потому зачастую относят к «мастерам прошедших времен»? Не оттого ли, что в эпоху виртуальности он верит в реальность сцены, в живых актеров, в магию театра? Или оттого, что он не хочет следовать никаким теориям и прислушивается только к собственному инстинкту? Оттого, что маньеризм и китч — а ведь пытались нацепить на него и эти ярлыки — пришлись на годы расцвета его деятельности? Потому ли, что он ненавидит формализм, подмигивания, мелкотемье? И не оттого ли, что он-то как раз верит и в кино, и в музыку, в театр и в искусство вообще?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
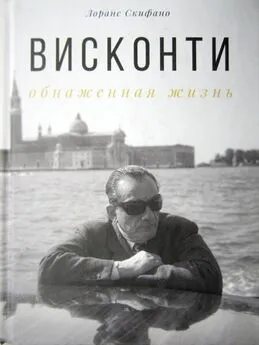

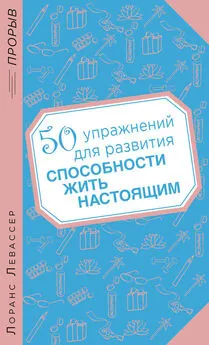
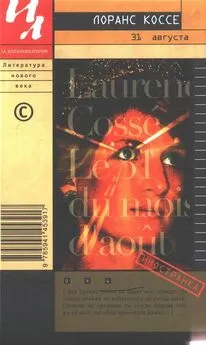
![Картер Браун - Том 27. Обнаженная и мертвая [ Тигрица. Ангел. Обнаженная и мертвая. Убийство экспромтом]](/books/569310/karter-braun-tom-27-obnazhennaya-i-mertvaya-tigric.webp)