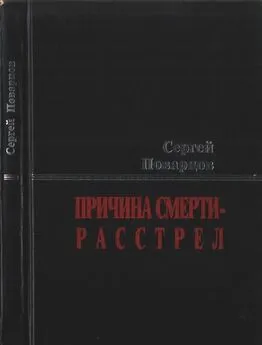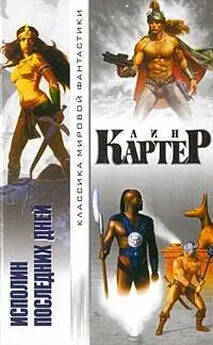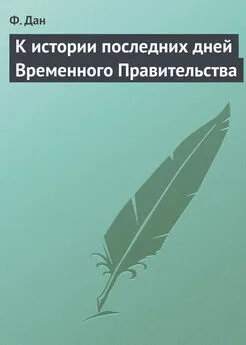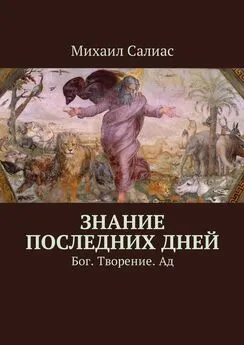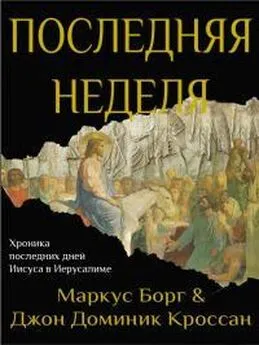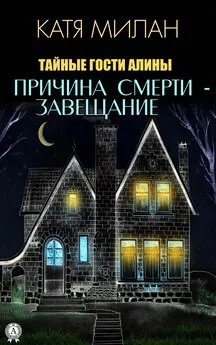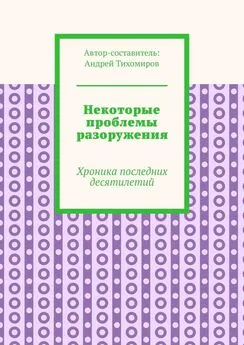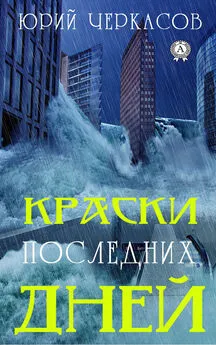Сергей Поварцов - Причина смерти — расстрел: Хроника последних дней Исаака Бабеля
- Название:Причина смерти — расстрел: Хроника последних дней Исаака Бабеля
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Терра
- Год:1996
- Город:Москва
- ISBN:5-300-00105-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Поварцов - Причина смерти — расстрел: Хроника последних дней Исаака Бабеля краткое содержание
Причина смерти — расстрел: Хроника последних дней Исаака Бабеля - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Приподнимая занавес
1
Едва ли найдется сюжет, где бы ни возникала надобность «листать обратно календарь», по слову поэта. Есть она и у меня…
Конец 1938 года. Война Сталина со своим народом продолжается вопреки ухищрениям официальной пропаганды, которая периодически забрасывает в общество информацию об ошибках НКВД. Что пишут советские газеты? Кто-то восстановлен в партии. Кого-то выпустили на свободу, — значит, «органы» разобрались и установили истину. Наказаны некоторые работники ГБ, злоупотреблявшие властью. Да что там работники! Правительство меняет самих наркомов. Генриха Ягоду сменил Николай Ежов, оказавшийся врагом. Теперь вместо Ежова — Лаврентий Берия…
Все гениальное просто, в том числе и преступления. В этом смысле Сталин был настоящим гением, ибо безошибочно использовал в своей политике два фундаментальных фактора: 1) религиозную ослепляющую силу коммунистических идей и 2) азиатскую природу огромной многонациональной страны. Попытки объяснить «культ личности» страхом подданных и товарищей по партии следует признать несостоятельными. Феномен Сталина глубже, стало быть, дело не только в чувстве страха, которое внушал вождь. Конечно, диктатора боялись, и все же причины в другом.
В Сталине нашло персонификацию неизжитое у русского народа простодушное представление о грозном батюшке-царе, наместнике Бога на земле. Идея самодержца, защитника святой Руси, парадоксально воплотилась в фигуре грузина Сталина. Трагический парадокс состоял в том, что настоящий царь к всеобщей радости народа был расстрелян вместе со всей семьей, и на престол пришли сначала Ленин с Троцким, затем Сталин. Смена идеологии еще не означала, что изменилась психология нации.
Кроме религиозной традиции существовала традиция революционная. Радикальные русские интеллигенты, начиная с Радищева, проповедовали идеи социализма, атеизма, позитивизма, марксизма и, в конечном счете, сумели убедить общество в необходимости коренных социально-экономических преобразований. Иными словами, «метафизика марксизма» сделала свое дело: россияне уверовали в царство Божие на земле, ради которого можно пойти на любые жертвы. Обе традиции органически дополняли друг друга.
А жестокость Сталина, как ни горько в том признаться, отвечала каким-то глубинным свойствам русского национального характера; о них точно говорит в «Окаянных днях» Иван Бунин. Оставим в стороне момент личностный, субъективный, и тогда получается, что объективно жестокость Сталина являлась противовесом извечной анархической стихии, сдерживала вседозволенность, была той железной уздой, без которой русский мужик становится неуправляемым и, следовательно, социально опасным, страшным. Сталин как никто другой из большевистских вождей понимал эти особенности национального характера и потому стал диктатором. Он добился главного — слепой веры в «товарища Сталина». Часто генсек посмеивался над этими чувствами простых людей, иногда лицемерно отмахивался от разговоров на тему «культа» (например, с Л. Фейхтвангером), но к концу жизни, кажется, сам уверовал в коммунистического Богочеловека, говоря о себе в третьем лице. И что немаловажно с политической точки зрения, Сталин был антиподом Гитлера в глазах советского народа и «левой» интеллигенции Запада.
Советская интеллигенция тоже холопствовала. Любопытен рассказ Михаила Булгакова, записанный его женой. На премьере «Ивана Сусанина» в Большом театре 2 апреля 1939 года писатель увидел, что перед эпилогом «правительство перешло из обычной правительственной ложи в среднюю большую (бывшую царскую) и оттуда уже досматривало оперу. Публика, как только увидела, начала аплодировать и аплодисмент продолжался во все время музыкального антракта перед эпилогом. Потом с поднятием занавеса, а главное, к концу, к моменту появления Минина, Пожарского — верхами. Это все усиливалось и, наконец, превратилось в грандиозные овации, причем Правительство аплодировало сцене, сцена — по адресу Правительства, а публика — и туда, и сюда».
Далее Елена Сергеевна продолжает уже от себя:
«Сегодня я была днем в дирекции Большого, а потом в одной из мастерских и мне рассказывали, что было что-то необыкновенное в смысле подъема, что какая-то старушка, увидев Сталина, стала креститься и приговаривать: вот увидела все-таки! что люди вставали ногами на кресла!
Говорят, что после спектакля Леонтьев и Самосуд были вызваны в ложу, и Сталин просил передать всему коллективу театра, работавшему над спектаклем, его благодарность, сказал, что этот спектакль войдет в историю театра.
Сегодня в Большом был митинг по этому поводу» [74] Дневник Елены Булгаковой. М., 1990. С. 250.
.
Заметим: это апрель 1939 года. Бабель еще на свободе, но многие писатели уже казнены или ждут своего часа. Среди сотен других ждет и Михаил Кольцов, арестованный пять месяцев тому назад. Откроем еще раз дневник Булгаковой. 22 декабря 1938 года появляется очередная запись: «В Москве уже несколько дней ходят слухи о том, что арестован Михаил Кольцов» [75] Там же. С. 232.
.
Кольцов? Известие казалось невероятным. Влиятельный журналист, правоверный большевик, член-корреспондент Академии наук СССР, человек, фанатически верящий в Сталина [76] Эренбург И. Люди, годы, жизнь. М., 1990. Т. 2, С. 114.
, — нет, он никак не подходил на роль врага народа. В отличие от Мандельштама и Клюева Кольцов имел репутацию «своего» человека на советском политическом Олимпе. Тем не менее Сталин распорядился судьбой преданного ему литератора в соответствии с избранным курсом массовых репрессий. Надо отдать должное генсеку: он хорошо знал природу людей, главным образом — слабости и низменные, потайные свойства человеческого характера. Играя на них, добивался любого результата.
Сталин безошибочно просчитал реакцию общественности на арест Кольцова. «Ах, вы не понимаете, почему арестован? Ну, и отлично. Именно такое недоумение мне необходимо, — чтобы ничего нельзя было понять».
Судя по воспоминаниям Эренбурга, Кольцов тоже не понимал значения террора, хотя был умен, завидно информирован, великолепно чувствовал политическую конъюнктуру и, как все журналисты, обладал порядочной долей цинизма. Более того, его роль в формировании советского образа жизни вообще трудно переоценить. В романе «По ком звонит колокол» Эрнест Хемингуэй вывел Кольцова под фамилией Карков с той мерой уважительности, которая в те годы приличествовала эмиссару Сталина в борющейся с фашистами Испании.
«Карков — самый умный из всех людей, которых ему приходилось встречать. Сначала он ему показался смешным — тщедушный человечек в сером кителе, серых бриджах и черных кавалерийских сапогах, с крошечными руками и ногами, и говорит так, точно сплевывает слова сквозь зубы. Но Роберт Джордан не встречал еще человека, у которого была бы такая хорошая голова, столько внутреннего достоинства и внешней дерзости и такое остроумие» [77] Хемингуэй Э. Собр. соч. М., 1968. Т. 4. С. 356.
.
Интервал:
Закладка: