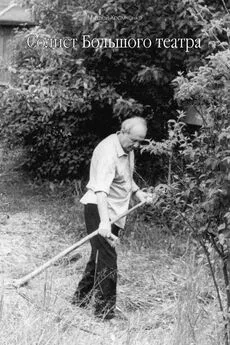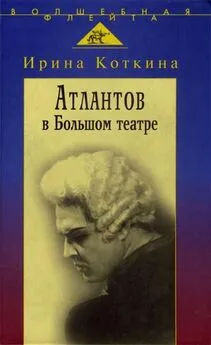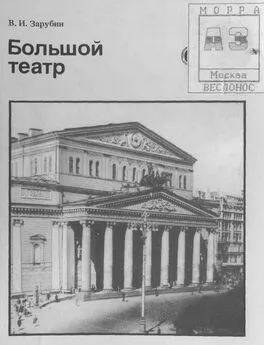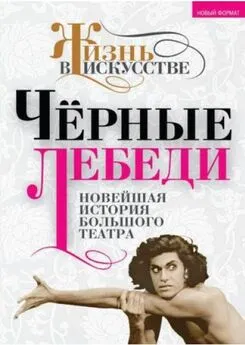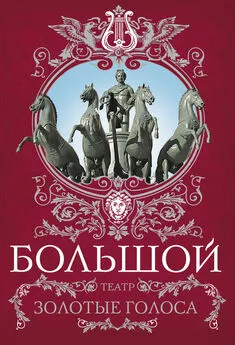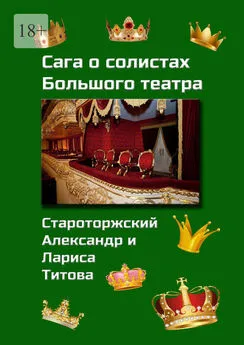Матвей Хромченко - Солист Большого театра
- Название:Солист Большого театра
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Спорт
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-906131-95-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Матвей Хромченко - Солист Большого театра краткое содержание
Солист Большого театра - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Не сталкиваться с проявлениями юдофобства отец, разумеется, не мог. Однажды в театре схватился с народным артистом, позволившим себе озвучить грязную сплетню; о том эпизоде вспомнив в Израиле, имя не назвал, впрочем, коллега мгновенно принёс извинения: может, я что-то не так понял…
Удивительно другое – он не пострадал не только в годы борьбы с «безродными космополитами», но и после ареста «врачей-убийц» [33], вот только в тот январский день письмо Вождю зачитала русская певица и депутатом больше не избрали (то ещё страдание). Но его имя продолжало значиться на декадных афишах театра, его приглашали на гастроли, он звучал по радио. Удивляться, нет ли? Грампластинку Соломона Хромченко хранили в семье «ярого юдофила» Шолохова (воспоминания Эмиля Сокольского, Интернет).
Да, сталинская коса выкосила не всех «запятнанных пятым пунктом», иные в ЦК КПСС и Президиуме Верховного Совета СССР, в министрах, на других высоких постах оставались, даже Сталинские премии получали. Но всё это не отменяет психологически ущербного вопроса [34]: почему, если не списывать всё на провидение, не тронули Соломона Хромченко? Как бы дико ни звучала моя гипотеза и как бы она меня самого не коробила, я всё же её озвучу.
Начну с того, что если бы для ареста требовался повод, что смешно, то достаточно было напомнить непонимающему, что перед войной он пел в итальянском посольстве, на что, разумеется, было получено разрешение НКВД, но этого никто не вспомнит, даже подарки от фашистов принял. Неопровержимая улика: альбом с грампластинками фирмы «Records» – Энрико Карузо, Беньямин Джильи, Рената Тибальди, это куда ни шло, но вот и фирменный радиоприёмник, позволяющий слушать вражью клевету, а потом её пересказывать, желающие подтвердить нашлись бы тотчас.
Понятно, что не спасло бы ни членство в партии, ни депутатство, ни что когда в Большом театре проходили транслируемые на всю страну правительственные заседания, он запевал из оркестровой ямы «Интернационал», а чтобы пройти в театр, получал спецпропуск Лубянки. Наплевать и растереть, помня, что от расправ не спасало даже членство в Политбюро и звания Героя Советского Союза или соцтруда.
Так почему пронесло?
Моя версия, даже если я преувеличиваю социальный имидж отца: его могло защитить только неведомым мне образом проявляемое, но ближайшему окружению Вождя известное его благоволение. Может, замешанное на удивлении из всех единственным на сцене его «императорского» театра солистом, проявившим то ли мужество, то ли безрассудство не отказаться от «неблагозвучного» имени.
Для начала об имидже, с грандиозным Михоэлсом, разумеется, несопоставимым, но и немалым. Иначе улучшением жилищных условий семьи Соломона Хромченко не занималось бы Управление делами Совета народных комиссаров Союза ССР (у нас сохранились письма-уведомления), после войны ему не удалось бы прописать в Москве бабушку и сестру с племянницей, а когда бабушка умерла, в ячейке Донского колумбария перезахоронить и прах умершего в Киеве дедушки.
Когда мы вернулись из Куйбышева, а тогда в стране ввели раздельное обучение мальчиков и девочек, меня без вопросов приняли в другую «правительственную» школу (в ней также учились дети членов Политбюро и правительства), хотя она, как и первая, располагалась вне нашего района. Отец из года в год получал разрешение снимать дачу в посёлке рядом с «режимной», то есть опекаемой энкавэдешниками Барвихой. А когда надо было отстоять дом отдыха «Поленово» от посягательств желавших его у театра отобрать, письмо дирекции ГАБТа в инстанцию подписали дирижёр Мелик-Пашаев, солисты оперы Мчедели, народный артист Грузинской ССР, и Хромченко.
Его часто приглашали на звучные государственные мероприятия, в составе делегации «первачей» Большого он поздравлял с юбилеями коллективы МХАТа и Малого театра, был неизменным членом советов ЦДА и ЦДРИ, не Бог весть, но всё же. И эпизод марта 1945-го: в синагоге на улице Архипова главный московский раввин Яков Фишман с соизволения Вождя организовал утреннюю молитву, собрав в Фонд восстановления народного хозяйства сотни тысяч рублей. Всех пришедших и для участия в ней приехавших не москвичей, охраняемых десятками милиционеров и «специфически штатских», синагога вместить не могла, а среди стоящих на улице зоркий наблюдатель выделил четверых: Рейзена, Утесова, Козловского и Хромченко (Аркадий Ваксберг, «Сталин и евреи»).

Сталин впервые услышал отца ещё аспирантом консерватории на заключительном концерте лауреатов конкурса. Концерт затянулся за полночь, получивший третью премию его заключал, и когда отзвучала последняя нота арии Герцога Мантуанского, вместе со всеми слушателями ему аплодировал «с ласковой по-отечески улыбкой» досидевший до конца владыка Кремля (Ефим Весенин, сб. «Молодые мастера искусств», 1938 г.).
К первым выборам в Верховный Совет СССР (1937 г.) Соломон Хромченко записал (в дуэте с Петром Киричеком) песню Михаила Старокадомского и Александра Гатова «Сталинский закон»: «Да здравствует Сталин, да здравствует тот, кто нас от победы к победе ведёт», через пару лет «Марш артиллеристов» Исаака Дунаевского и Сергея Михалкова: «Родной народ бойцов зовёт, трубит в поход горнист! За Родину, за Сталина – вперёд, артиллерист!» (ведь Сам-с-усам сказал: «артиллерия – бог войны»; потом и Тихон Хренников такой марш написал на слова Виктора Гусева), они звучали по радио, с грампластинок. Можно счесть это ничего не значащим: ну не будет же погружённый в государственные заботы адресат обращать внимания на такие пустяки. Как бы не так: он не только отслеживал, что происходит в государстве, читая газеты-журналы, но и внимал славословящим, известно, в частности, что остался недоволен «Маршем…» Дунаевского, мол, композитор специально сочинил плохую музыку, чтобы народ эту песню не подхватил.
Сегодня те вирши слышатся, как сказал бы остро чувствовавший фальшь Антон Чехов, «звучащей пошлостью», но меня сразил ответ филолога Виктора Литвинова, профессора Пятигорского лингвистического университета, на вопрос, как он думает, понимал ли отец, что поёт: «Если бы понимал, не мог бы петь так замечательно»! Так может, и Сергей Лемешев не понимал, что поёт, накануне советско-финской войны записав Гимн Карелии «Принимай нас, Суоми-красавица» с недвусмысленным текстом: «Ломят танки широкие просеки, самолеты кружат в облаках… Много лжи в эти годы наверчено, чтоб запутать финляндский народ. Раскрывай же теперь нам доверчиво половинки широких ворот!.. Ни шутам, ни писакам юродивым больше ваших сердец не смутить. Отнимали не раз вашу родину – мы пришли вам её возвратить!..» [35]
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: