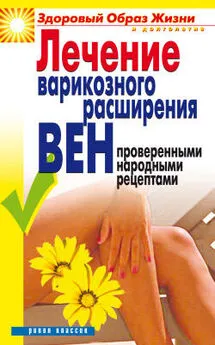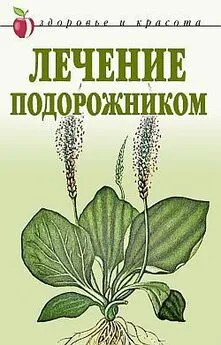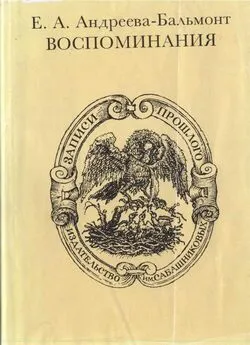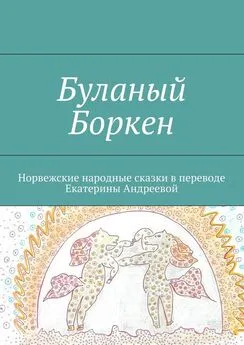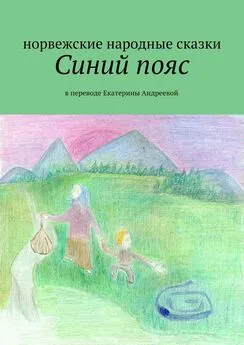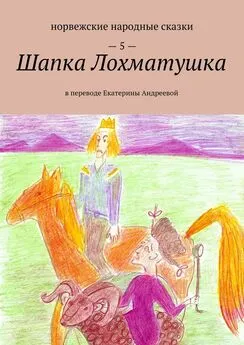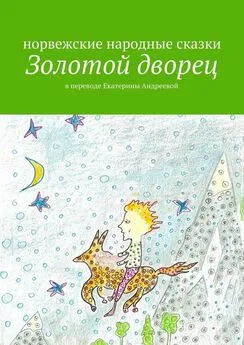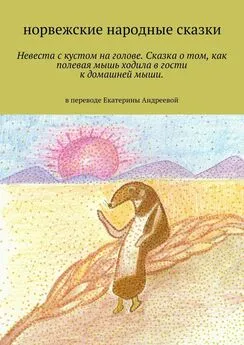Екатерина Андреева - Всё и Ничто
- Название:Всё и Ничто
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент Иван Лимбах
- Год:2011
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-89059-159-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Екатерина Андреева - Всё и Ничто краткое содержание
Книга предназначена читателям, интересующимся историей, теорией и философией новейшей культуры.
2-е издание, исправленное и дополненное.
Всё и Ничто - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
392
О различии между дневным видением (бодрствованием), когда взгляд видит или смотрит, и сновидением, когда взгляд еще и показывает см.: Lacan J. The Four Fundamental Concepts of Psycho-Analysis. P. 75.
393
Lacan J. The Four Fundamental Concepts of Psycho-Analysis. P. 72, 74. Образ взгляда Лакан заимствует в книге Ж.-П. Сартра «Бытие и ничто» (1943), а также в исследованиях М. Мерло-Понти «Феноменология восприятия» (1945) и «Видимое и незримое» (1964) и превращает его в основной «алгебраический знак» своей теории. Лакан возводит идею взгляда к философии абсолютного бытия, явленного добра, красоты и ясности у Платона. Сартр, возможно, воспринимает и трансформирует импульс М. Хайдеггера, который исследовал феномен подчинения или «опредмечивания» реальности в умозрительной ренессансной «картине мира». Идея зрения-как-контроля, конечно, имеет религиозные корни, но именно технический прогресс XIX в. позволяет ей кристаллизоваться во всем разнообразии понятийных возможностей. В 1920-х гг. – в эпоху головокружительных экспериментов с фото– и кинотехникой – такие разные мыслители, как Хайдеггер, Беньямин, Осип Мандельштам, пишут о вооруженном зрении-машине. Мандельштам в 1922 г. уподобляет образ XIX в. взгляду-прожектору, который присваивает мировую историю: «Минувший век… любил проецировать себя на экране чужих эпох, и в этом была его жизнь, его движение. Своей бессонной мыслью, как огромным шалым прожектором, он раскатывал по черному небу истории; гигантскими световыми щупальцами шарил в пустоте времен; выхватывал из мрака тот или другой кусок, сжигал его ослепительным блеском исторических законов и равнодушно предоставлял ему снова окунуться в ничтожество, как будто ничего не случилось» ( Мандельштам О. Девятнадцатый век // Мандельштам О. Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 196). Превращение фото– или кинокамер в массовые «протезы» для зрения, в свою очередь, обращает общество, которое ими пользуется, в соглядатаев, а с развитием видеотехники – в наблюдаемых. Любопытное сравнение «благодатного глаза» Беньямина и «дурного глаза» Лакана, которое отражает эту динамику в понимании взгляда, см.: Foster H . The Return of the Real. P. 266–267. Лакан определяет взгляд как «точку желанного, ускользающего бытия», как «присутствие пустоты»; взгляд одновременно и создает и разрушает образ ( Lacan J. The Four Fundamental Concepts of Psycho-Analysis. P. 83, 180). Эта идея присутствует в романе М. Бланшо «Фома Темный», опубликованном в 1941 г. и оказавшем существенное влияние на философию и эстетику Ж. Батая: «Глаз, непригодный для видения, принимал невероятные размеры, расширялся и расширялся, простираясь над горизонтом, впускал ночь в свое средоточие, превращая ее в зрачок. В этой пустоте мешались взгляд и объект взгляда. Мало того, что этот ничего не видящий глаз воспринимал причину своего видения. Он ясно видел тот объект, что не давал ему видеть. Его собственный взгляд входил в него в виде образа в тот трагический момент, когда ясно было видно, что этот взгляд есть смерть всякого образа» (Цит. по: Батай Ж. Внутренний опыт. С. 190).
394
Lacan J. The Four Fundamental Concepts of Psycho-Analysis. P. 106.
395
Ibid. P. 75, 76, 84–85.
396
В менее эзотерическом смысле Зонтаг также связала историю фотографии с историей желания, о чем уже упоминалось выше в связи с «припасением реальности». Она уподобила фотографическое знание – через видение XIX в. желанию обладать, в частности, и через демократический перевод мира в картинки. Туристические снимки, по ее мнению, питают чувство присвоения, и именно это чувство совладельцев – героев жизни отмечает позитивистскую эстетику и освоение реальности в искусствефотографии прошлого века. Зонтаг опиралась и на свои собственные наблюдения за туристами, которые таскали по камере на каждом плече, и на замечание В. Беньямина о страсти обладания предметами через репродукции: «Стремление же приблизить вещи к себе – точнее, к массам – это такое же страстное желание современных людей, как и преодоление уникального в любой ситуации через его репродуцирование, желание владеть предметом в репродукции» ( Беньямин В. Краткая история фотографии. С. 82).
397
Foster H. Compulsive Beauty. P. 27–28.
398
Lacan J. The Four Fundamental Concepts of Psycho-Analysis P. 26, 73.
399
Krauss R. The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths. P. 211–212.
400
Krauss R. Notes on the Index: Part 1. P. 206, 208.
401
Одни из первых инсталляций были сделаны в Нью-Йорке в 1976 г. в только что открывшемся Институте современного искусства (PS1). Подробнее об инсталляции как жанре новейшего искусства см.: De Oliveira N., Oxley N., Petry M . Installation Art. Thames & Hudson, 2001.
402
Sontag S. On Photography. P. 121.
403
Lawson T. On Art & Artists // Artwords 2: Discourse on the early 80-s / Ed. by J. Siegel. U.M.I Research Press, 1988. P. 218.
404
After Sherrie Levine: Interview with J. Siegel // Ibid. P. 251. Произведением, которое буквально раскрывает метафору Ш. Ливайн о блокирующей памяти экрана, является видеоинсталляция Дэмиена Хёрста, представляющая собой четыре больших телевизора, укрепленных на значительной высоте, как это делается в публичных местах, и обращенных друг к другу экранами крест-накрест. На экранах – рекламные ролики обезболивающих средств, смонтированные без текстов, но с сохранением динамичных музыкальных саундтрэков. Хёрст добивается напряженного, почти вагнеровского драматизма: экраны глушат друг друга, агрессивно транслируя предложения анестезии с неотвратимостью, которая может подразумевать только смерть. Экранная анестезия и победа над болью здесь, таким образом, означают и преодоление жизни, экранирование реальности.
405
Kruger B. Pictures and Words. Interview with J. Siegel // Ibid. P. 301.
406
Crimp D. Pictures // Postmodernism: Rethinking Representation. P. 183.
407
Ibid. P. 185.
408
См.: Owens C . The Allegorical Impulse. P. 206–207.
409
В интервью К. Давид П. Вирилио заявляет: «Хочу напомнить, что слово „делокализация“ имеет общий корень с латинским словом dislocare – дислоцировать. <���…> Проблема, следовательно, сводится к следующему: до какой степени искусство может быть делокализовано, дислоцировано? А это подводит нас к проблеме виртуальной реальности. Эволюция шла от пространственного дислоцирования – в абстракционизме и кубизме – к временному дислоцированию, чему мы, собственно, и являемся ныне свидетелями. Речь идет о сущностной виртуализации, т. е. не о виртуализации осуществленного действия, а о виртуализации в момент его осуществления. <���…> Это уже не та виртуализация, что была присуща фотографии, репродуцированию или кинематографу; здесь нет временного разрыва, это синхронная виртуализация. <���…> Мы несемся со скоростью, преодолевающей временные барьеры. Виртуальность… это барьер, на котором повешен дорожный знак „Пересекать запрещено“. Мы свидетели рождения глобального времени и мгновенной интеркоммуникации. А не являются ли временные барьеры также и барьерами искусства?» ( Давид К., Вирилио П . Черные дыры искусства / Пер. В. Мизиано // Художественный журнал. 1997. № 18. С. 56). Этот процесс дислокации искусства рассматривал еще Фредерик Джеймисон, предпочитавший в начале 1980-х гг. писать не о виртуализации времени и пространства, но об амнезии как постмодернистском качестве искусства, «заточенного в среде поп-имиджей»: «Первой функцией массмедиа нынче стала [способность] как можно скорее приобщать недавний исторический опыт к прошлому. Поэтому информационная функция массмедиа теперь заключается в том, чтобы помочь нам забывать: они служат агентами и механизмами нашей исторической амнезии. Но в таком случае… черты постмодернизма… трансформация реальности в образы и фрагментация времени на серию нескончаемых настоящих – в высшей степени созвучны такому процессу. <���…> Существует известное согласие в том, что изначальный модернизм функционировал против [породившего] его общества, а деятельность его многообразно описывалась как критическая, негативная, оспаривающая, подрывная, оппозиционная и тому подобное. Можно ли утверждать нечто подобное относительно постмодернизма и его социального момента? <���…> Этот вопрос мы вынуждены оставить открытым» ( Джеймисон Ф. Постмодернизм и потребительское общество / Пер. А. Курбановского // Вопросы искусствознания. 1997. № 11. С. 557).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: