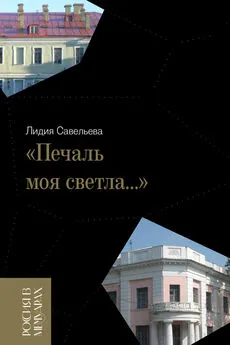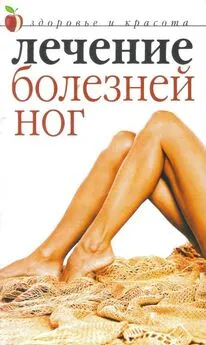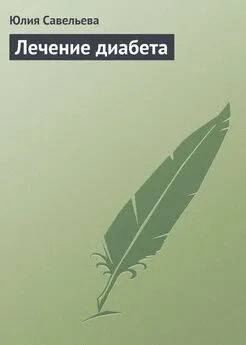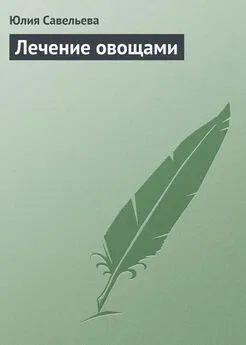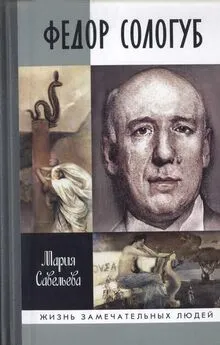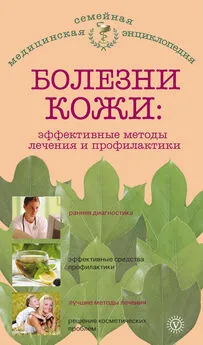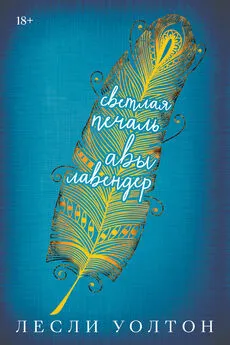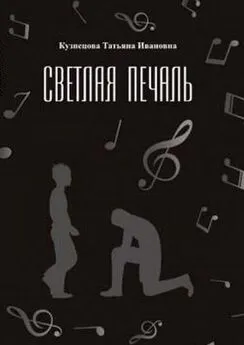Лидия Савельева - «Печаль моя светла…»
- Название:«Печаль моя светла…»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2022
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-1676-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лидия Савельева - «Печаль моя светла…» краткое содержание
«Печаль моя светла…» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Праздниками считались обязательно Новый год (он же день рождения тети Гали), 29 февраля (день Св. Касьяна – покровителя кафедры энтомологии, который праздновался, разумеется, по високосным годам) и дни рождения дяди Саши (4 марта) и Сережи (21 июня). Меня в этот домашний красный календарь вписать было невозможно ввиду непременного режима экзаменов в мой день, да и экспедиций. Хотя слово «программа» никогда не фигурировало, замысел праздника обязательно включал последовательность подарков с новым способом их преподнесения (запутанные путеводные нити, поиски по шуточной карте или по словам-подсказкам, картинкам и ребусам, Жукочкиным следам и пр.).
Если почему-либо не выпускалась стенная газета или не рисовались юмористические картинки в стиле датского карикатуриста Херлуфа Бидструпа, то есть серии сюжетных зарисовок таких мастеров пера, как дядя Саша, Виктор Матвеевич и тетя Галя (рисовали, например, смешные выходки Жука, тянущего за собой покорного хозяина, Сережкины «преступления без наказания», случаи тети-Галиной рассеянности или легкомыслия и т. д.), то на стенах вывешивались разные лозунги и изречения на всевозможных языках, например на русском для Сережки: «Найдена на батарее под окном (Дибуновская, дом 3, 3-й этаж, справа от чердака) пачка папирос “Беломор”. Потерявшего ожидает вознаграждение», и в связи с этим ему же адресованное актуальное «Бди!»; на украинском для бабушки: «Хай живе и квитне ненька Полтава!!!»; на древнерусском: «Веселие Руси питие есть» (с карикатурными знакомыми лицами и прижатыми к их груди бутылками «Хванчкары») или латинские и русские нравоучения чрезмерно алчущим: «Edamus ut vivemus, non vivamus ut edemus» («Едим, чтобы жить, но не живем, чтобы есть»); «Храни свечу от ветра, душу от лености, а чрево от упивания и объедания». Разумеется, допускался и более крепкий юмор, особенно в иноязычных вариантах.
Номера художественной самодеятельности с участием Елены Германовны и Анны Федоровны, любившей представлять себя в качестве «экономки правнучки Пушкина», хотя и не претендовали на изысканность, но встречались особенно благодарно, будь то частушки в платочках или поздравительные песенки в русских кокошниках. Пятнадцатилетний Сережка больше всего запомнился в образе лебедя в белой марлевой пачке с уморительным нагрудником в номере под длинным названием «Танец маминого лебедя, увы, уже не маленького». Его голые и малость косолапые ноги особенно впечатляли специальными тапочками с тесемками. Это, конечно, уж я с удовольствием тряхнула стариной в роли режиссера, костюмера и балетмейстера, почти сразу после посещения «Лебединого озера» с тогдашней московской примой (позор мне, «сырной» племяннице, так как сомневаюсь, что это была Ольга Лепешинская).
На старших курсах дважды с нами дурачились и две мои подружки Женя и Ира, при этом живой творческий дух дома запомнился им до старости.
Что касается кафедрального праздника Святого Касьяна, то он в 1956 году проходил, разумеется, не у нас дома, а на кафедре энтомологии почти в конце длинного университетского коридора на Менделеевской линии. Мы с Сережей тоже вертелись под ногами, благо кафедра располагала там не одной аудиторией и благо Катя (Екатерина Ивановна Глиняная), хозяйка кабинета, нашу первоначальную скованность понимала правильно и опекала нас. Вся кафедра же, включая не только ее профессиональных членов, но и аспирантов и даже студентов (!), веселилась напропалую. В обвешанной юмористическими лозунгами большой аудитории длинные шкафы (с коллекциями, разным фотохозяйством, оптикой, спиртовыми банками) были замечательно раскрашены самыми разнообразными восхитительными бабочками – настоящими «цветами фауны», как любовно называл их мой дядюшка. В этой «беспозвоночной» и «чешуекрылой» аудитории зрелые, созревающие и начинающие энтомологи вместе пели, танцевали, ставили сценки, изображали на подиуме демонстрацию мод и декламировали шуточные стихи на любимую тему фотопериодизма в мире насекомых и их собственном. При этом пели очень слаженным хором (начиная с Gaudeamus igitur… – всегда дирижировал дядя Саша) и поодиночке (замечательный голос был у Инны (Инессы Алексеевны Кузнецовой), тогдашней молодой преподавательницы кафедры, очень любимой моей тетушкой, а также у хорошо знакомой нам Киры Федоровны Гейспиц, уже известного ученого и соавтора дяди). Студент и мой ровесник Витя Тыщенко (впоследствии профессор редкого авторитета, в 32 года ставший заведующим кафедрой после скоропостижной смерти дяди) оказался очень тощей длинноногой и смешной моделью, дефилирующей на длинном столе-подиуме под комичный наукообразный текст, который читала его студенческая подружка Таня Кинд, ставшая потом аспиранткой.
Сейчас задумалась: почему меня так впечатляли эти энтомологические празднества? И соображаю: ведь этот демократический дух был особо удивителен для меня как филолога-одиночки по своей профессиональной сути. Действительно, вся моя деятельность как специалиста начиналась, сводилась и заканчивалась интимным процессом размышления над книгой.
А биология – это продукт социального творчества в лабораториях, во время полевой практики, в многочисленных экспедициях по географическому обследованию фауны и флоры. Отсюда я, девчонка, только недавно выбравшая свой путь, невольно чувствовала определенную зависть к энтомологам. Увы, она не могла не аукнуться позже кризисом на третьем курсе.
Хорошо понимаю и своего дядю Сашу («АэСа», как его именовали за спиной на кафедре): когда уже в мои аспирантские годы вышел указ о запрете совместительства, он из альтернативы – научно-исследовательский институт Академии наук (с замкнутым коллективом) или университет (с постоянной работой с молодежью) – выбрал именно университет. И надо понимать, чем он пожертвовал, – любимой систематикой насекомых, самой большой части живого мира, насчитывающей за миллион видов! А все потому, что, как мне кажется, педагогом он был прирожденным.
Созвездие филологических умов нашего факультета в конце 1950-х годов
Глядя из закатной дали теперешнего возраста на начало своего филологического пути, не могу не признать, что я да и, пожалуй, все первокурсники очень приблизительно воображали, куда мы попали.
Мы, разумеется, понимали, что Ленинград (Санкт-Петербург) долго был столицей Российской империи, что он всегда был культурным центром и обладает неоценимыми сокровищами, которые надо изучать и изучать, что совсем недавно он с честью пережил ужасное время блокады, выйдя из него победителем, но, конечно, вряд ли до конца могли осознать, например, глубокие по мысли чудесные строки Б. Пастернака о нем:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: