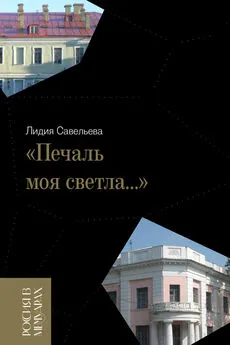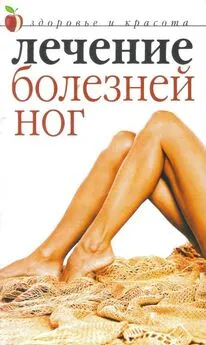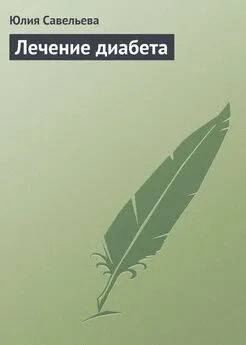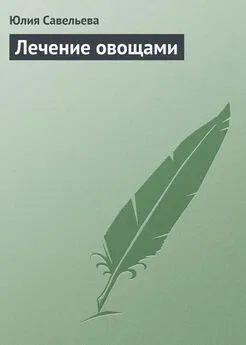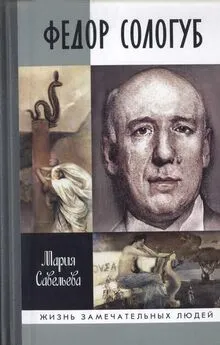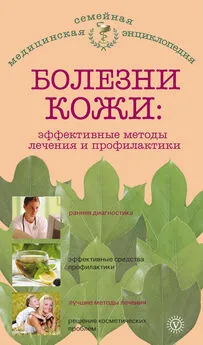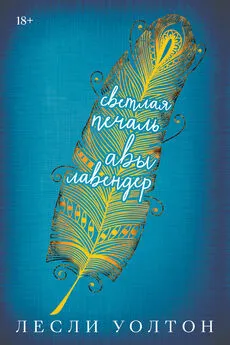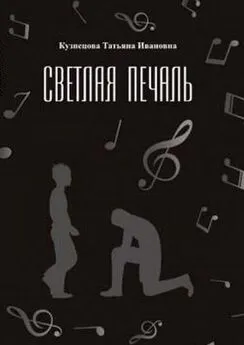Лидия Савельева - «Печаль моя светла…»
- Название:«Печаль моя светла…»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2022
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-1676-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лидия Савельева - «Печаль моя светла…» краткое содержание
«Печаль моя светла…» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Конечно, я тогда все это вряд ли понимала, но дядя Саша знал, и это обсуждалось у нас дома, что ради выдающегося филолога ученый совет с ректором А. Д. Александровым во главе не в первый раз смело пошел на утверждение деканом человека беспартийного. Когда на факультете появилось на стенде с расписанием скромное, написанное от руки объявление о работе семинара по изучению санскрита профессора Б. А. Ларина, мы с Ларисой, вчерашние школьницы, явились в названную аудиторию и ахнули: там сидело человек 25, и ни одного студента, только незнакомые преподаватели. Несмотря на тихий голос Бориса Александровича и наше дальнее место, мы из первого занятия-лекции усвоили только важное значение санскрита для индологии как науки и вообще для языкознания, так как до нас дошли очень древние рукописи на этом священном индийском языке (древнее греческих). Из хорошо понятого нами еще смутно, но помню его очень теплое воспоминание о своем киевском учителе-индологе и его ссылке. Мы еще приходили на эти редкие (раз в неделю) пары, замечая, что количество слушателей понемногу сокращается. С каждым занятием трудность усвоения нарастала из-за терминов, понятных преподавателям, но не нам, особенно про звуковые варианты и варианты письма. Наконец мы поняли, что нам пока это недоступно, и мы, к моему сожалению, вынуждены были отсеяться (думаю, никто даже не заметил). Так бесславно закончилась моя попытка учиться у Бориса Александровича.
Из нередких его докладов два я слышала, по-моему, на теоретическом семинаре лингвистов факультета. Они касались, казалось бы, очень разных областей знания: один на тему, существовала ли балто-славянская общность (она с юности остро интересовала Бориса Александровича), а второй – об эстетике слова. И оба собирали полную аудиторию, причем на втором из его докладов выступали и преподаватели литературных кафедр.
Чисто человеческие качества нашего декана, конечно, на таком далеком расстоянии мне бы остались неизвестными, если бы моя очень демократичная по своему духу Мария Александровна не делилась со мной своими рабочими радостями и печалями. Так, она рассказывала об очень искренних извинениях Бориса Александровича. Накануне он не пожелал вслушиваться в ее доводы по какому-то вопросу, а потом позвонил для того, чтобы попросить за это прощения. «Вообще люблю его: он всегда умеет признавать свою вину», – тогда сказала она.
Еще больше мы узнали о своем декане во время его юбилея, когда, несмотря на его активное сопротивление, прошло торжественное заседание факультета в самой большой аудитории, которая была до отказа забита желающими его поздравить. Помню Бориса Александровича на самом расчищенном месте, импровизирующем сцену, который сидел рядом со своей очень милой женой Натальей Яковлевной вначале очень смущенный вниманием, а потом, как мне показалось, несколько оживившийся, когда выступающие перешли к конкретным воспоминаниям из его долгой жизни, наполненной тревогами.
Так, запомнились выступление академика В. В. Виноградова из Москвы, вспоминавшего их еще юношеские близкие контакты, и академика В. М. Жирмунского, приехавшего тогда с перевязанной рукой специально на это торжество. Он рассказал о Борисе Александровиче, который протянул ему руку помощи в самый острый момент, когда он остался без работы из-за направленных против евреев репрессий. Тогда, вопреки всему, он, сам прошедший через кампанию «борьбы с космополитизмом», убедил начальство взять на себя ответственность и сохранить для науки выдающегося специалиста. Тогда же я впервые рассмотрела и услышала молодого ректора нашего университета, выдающегося математика (чуть позже академика) Александра Даниловича Александрова, которому удалось вписать едва ли не лучшие страницы в его историю (1952–1964). Смело и настойчиво он преодолевал подводные камни кадровой политики советского времени, о чем не раз говорили и мой дядюшка, и Мария Александровна. Увы, я была еще настолько легкомысленна, что в его речи меня поразил только демократизм – случайное упоминание о спальном мешке, общем с не то аспирантом, не то студентом, в его горнолыжных приключениях.
Возвращаясь же к заслугам нашего декана Б. А. Ларина, нельзя не упомянуть его огромную организационную работу по созданию коллективных трудов лингвистов-лексикографов. Ведь любой словарь – это сокровищница слов языка со своими принципами словотолкования. Труд по составлению таких кладовых языка огромен и требует участия очень многих собирателей и толкователей. Так, горьким трауром в истории петербургской лексикографии отозвалась передача лет за 5-6 до нас в Москву Картотеки древнерусского словаря (КДС), собиравшейся даже в советскую пору самыми известными учеными и преданными энтузиастами. Среди них был и погибший в блокаду муж моего научного руководителя, и сам Б. А. Ларин. Бескорыстная и огромная самоотдача Б. А. Ларина этому благородному делу не могла не вызывать восхищения. К сожалению, именно по этому поводу ему приходилось бороться с некоторыми партийными деятелями, которые не спешили включаться в работу без предварительного финансирования. В связи с этим на моих глазах уже в аспирантскую пору были попытки поставить Ларина под партийный контроль, в том числе и со стороны заведующей кафедрой русского языка Э. И. Коротаевой. Отсюда брал свои корни и конфликт моего научного руководителя с ближайшим начальством.
Второй академик нашего факультета Виктор Максимович Жирмунский более всего в лингвистике был известен как выдающийся германист и грамматист-теоретик, и для моего выпуска было большой удачей слушать впервые появившийся в программе курс общего языкознания в оригинальной трактовке этого ученого с мировым именем. К сожалению, в моей памяти, памяти русистки прежде всего, многое покрылось естественным туманом, но помню, что основу его лекций составила серия собственных статей, которые мы потом разыскивали, чтобы дополнить и не упустить важное. Особое внимание он уделил развитию сравнительно-исторического языкознания и принципам своего теоретического подхода к языку. Лично мне он понравился горячей защитой моих любимых младограмматиков и прежде всего Пауля (как он представился, в научном мире он считал своим «отцом» родоначальника германской филологии в России профессора Ф. А. Брауна, а глава Лейпцигской школы Герман Пауль получался его «дедушкой»). Однако он считал принципиальным дополнение лейпцигских реконструкций дальнейшими сопоставительно-сравнительными исследованиями отдельных языков, включая их диалекты. Зачет, к которому мы готовились с некоторой дрожью, остался в памяти как почти формальный, видно, он сам еще не очень представлял уровень требований от недостаточно зрелых разумом девиц.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: