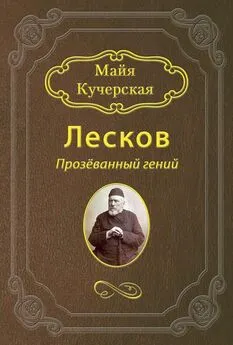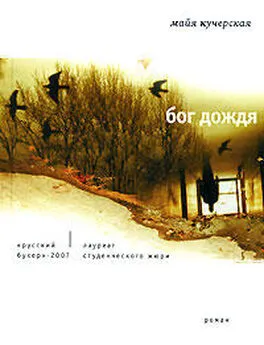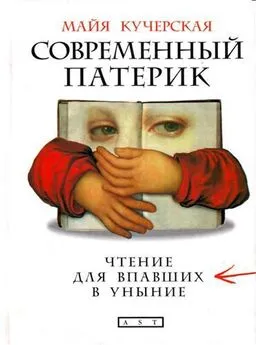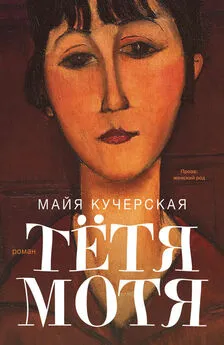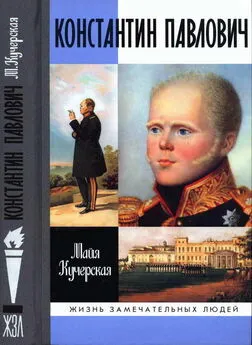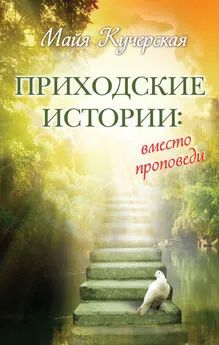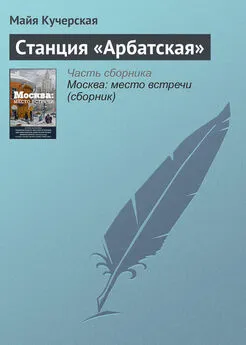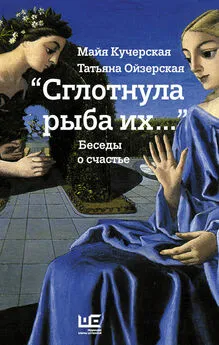Майя Кучерская - Лесков: Прозёванный гений
- Название:Лесков: Прозёванный гений
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-235-04465-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Майя Кучерская - Лесков: Прозёванный гений краткое содержание
Книга Майи Кучерской, написанная на грани документальной и художественной прозы, созвучна произведениям ее героя – непревзойденного рассказчика, очеркиста, писателя, очарованного странника русской литературы.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Лесков: Прозёванный гений - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«Самое веское из сих рекомендательных писем было от неизвестного мне рекомендателя, и писано оно было на полоске синей толстой бумаги, вырванной из переплетенной счетной тетради, а заключалось в следующей несложной редакции: “Сему верь” – а вместо подписи “слово-титло” (бог знает, что оно означало)» 324.
Министр Головнин снабдил его официальным письмом остзейскому генерал-губернатору Вильгельму Карловичу Ливену, в котором просил предоставить своему посланнику полную свободу действий.
Староверы предложили Лескову поселиться прямо у них в слободе, в доме эконома Ионы Федотовича Тузова – не без расчета: им хотелось иметь столичного гостя «на глазах». Барон Ливен это одобрил, и сам командированный был доволен: так он оказался в самом «центре русского старообрядческого населения». По утрам он отправлялся из предместья в город, целый день работал в генерал-губернаторском архиве, а вечером приводил в порядок свои выписки и расширял «круг знакомства в старообрядческой среде».
В архиве посланец министра изучал документы, связанные с созданием старообрядческих школ в XIX веке; между прочим, прочитал и донесение чиновника особых поручений графа В. А. Соллогуба, соединявшего службу с занятиями литературой, автора упомянутого нами знаменитого «Тарантаса». В этом документе, датированном 24 июля 1860 года, Владимир Александрович описывал Александру Аркадьевичу Суворову, тогдашнему прибалтийскому губернатору, беззакония, творимые властями в отношении раскольников, и среди прочего предлагал учредить обязательные школы для их детей. К 1863 году это предложение графа, как и другие, всё еще оставалось без ответа.
В Риге тоже была своя секретная школа, но и в нее петербургского гостя пока не пускали: «На все расспросы, как и чему учат в этой школе, мне всё-таки был постоянно один неизменный ответ: “Погоди, с летам всё узнаешь”». Что ж, Лесков ждал. Шли дни «с жирными обедами и мирными беседами», со всеми он уже «стал как свой», ездил вместе с раскольниками на загородную мызу Гризенберг, «по вечерам и ночам таскался в черные дыры раскольничьего пролетариата, где… нашел много вещей, необыкновенно интересных в беллетристическом отношении» 325, однако в школу его всё-таки не вели. Лишь когда он заговорил о скором возвращении в Петербург, староверы смягчились. Он наконец увидел то, ради чего приехал.
Школа помещалась в небольшом домике «в трех светлых и довольно чистых комнатках», за наем которых платил старообрядец-купец Григорий Семенович Ломоносов. В одной из них жил с женой учитель Маркиан Емельянов, или Марочка; он занимался с двадцатью двумя мальчиками. Девочек было в два раза меньше, и им преподавала жена Емельянова, у которой, по наблюдениям Лескова, было даже больше педагогического такта. Детей учили читать, писать, считать, петь, обладатели лучших голосов потом пополняли хор. Ученье было недолгим: «чуть ребенок начал скоро читать и выводить каракули – курс кончен, и скорей мальчишку к делу, за ремесло или за прилавок». До Священной истории дело не доходило; Марочка готов был бы преподавать и ее, но подходящих учебников не было. В одном классе, как обычно в сельских школах, занимались ученики разного уровня:
«…учащие букварь сидят о бок с проходящими псалтырь, а псалтырники с учащими часовник, и, как все ученики по старинному обычаю читают вслух, что выходит такое смешение языков, что невозможно довольно надивиться, как рижский раскольничий педагог может во всём этом хаосе что-нибудь понять и за чем-нибудь уследить».
Не у каждого ребенка, по бедности, была своя книга. «Отсюда, разумеется, бестолковость и одна забота учить в долбежку, причем изучаемое нисколько не интересует учащегося».
И вот неутешительный вывод:
«Интереса собою эта школа не представляет никакого, а тем меньше может она представлять собою образец, достойный какого-нибудь подражания» 326.
Лесков не сомневался: нужно не размножать такие негодные школы, а «учреждать школы новые с учителями экзаменованными и с хорошо приспособленными учебниками». Из путешествия он привез множество маленьких азбук, напечатанных на толстой голубой бумаге, несколько старинных книг, старообрядческие рукописи, собственные заметки, скопированные документы. Все эти книжечки, книги и бумаги, бережно хранимые им, теперь лежат в фонде Лескова в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ) 327.
Eto итогам поездки Лесков составил отчет «О раскольниках города Риги, преимущественно в отношении к школам». Записка была напечатана в типографии Академии наук в количестве 60 экземпляров. Довольно подробно описав высадку на таинственный раскольничий остров, он завершает отчет внятными предложениями: начальные школы для раскольников необходимо открыть, к экзаменам на степень приходского учителя членов общины допустить, а в дальнейшем разрешать преподавание в начальных раскольничьих школах только дипломированным учителям. Наконец, нужно напечатать буквари и Священную историю – гражданским шрифтом, но с привычным раскольникам написанием имен: Исус, а не Иисус, Давыд, а не Давид.
Лесков, как и генерал-губернатор барон Ливен, как и Мельников-Печерский, был убежден, что рассеяние тьмы невежества староверов обнаружит ничтожность различий между двумя ветвями православия и ускорит слияние раскольников с официальной Церковью.
После этой записки, составленной для служебного пользования, Лесков рассказал о своей поездке широкому читателю – сначала в двух статьях «С людьми древлего благочестия», опубликованных в журнале «Библиотека для чтения» (1863. № 11; 1864. № 9), а спустя несколько лет в статье «Искание школ старообрядцами» (1869) в газете «Биржевые ведомости». Простые истины о необходимости допустить старообрядцев до просвещения Лесков повторял еще долго. Наконец в 1873 году, спустя 40 лет после закрытия последней легальной школы в Риге, была организована официальная старообрядческая школа при Гребенщиковской богадельне – вероятно, не без влияния его трудов. Рижские старообрядцы сохранили о нем благодарную память.
Лесков постоянно возвращался к их проблемам и позднее, сформулировав однажды важную для себя мысль: староверы воплотили в себе лучшее, что есть в русских людях:
«Тут нет и тени нашей, будто “прирожденной”, русской вялости и тех формальных “волокит”, без которых мы не можем ничего в ход пустить. У староверов это совсем иначе. Это какие-то янки, окрыленные страстною религиозною кипучестью и готовые вступать в дело сию же минуту…» 328
Изнутри прочувствовавший драму раскола, полюбивший культуру и уклад российских староверов, зачарованный стариной и даже логикой «чем старее, тем лучше», Лесков вырастил из этих любви и сродства и «Запечатленного ангела», и «Печерских антиков», отчасти и «Соборян», в которых чувствуется влияние «Жития протопопа Аввакума», судя по всему, прочитанного Лесковым как раз в начале шестидесятых годов (оно было впервые опубликовано Н. С. Тихонравовым в 1861-м). Староверы как неотъемлемая часть русской религиозной жизни постоянно мелькали на страницах его рассказов «Некрещеный поп» (1877), «Однодум» (1879), «Несмертельный Голован» (1880), «Инженеры-бессребреники» (1887); «Фигура» (1889), «Юдоль», «О “квакереях”» (1892).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: