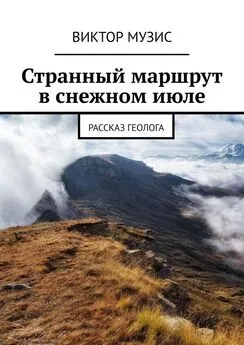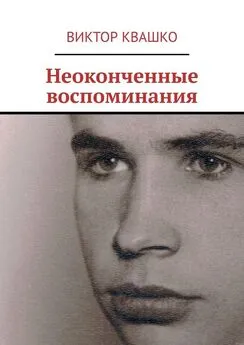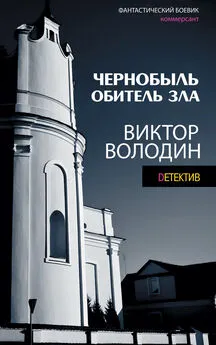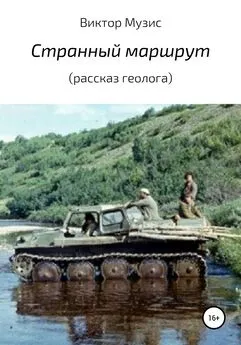Виктор Володин - Неоконченный маршрут. Воспоминания о Колыме 30-40-х годов
- Название:Неоконченный маршрут. Воспоминания о Колыме 30-40-х годов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Охотник
- Год:2014
- Город:Магадан
- ISBN:978-5-906641-08-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Володин - Неоконченный маршрут. Воспоминания о Колыме 30-40-х годов краткое содержание
Эта книга — не просто мемуары геолога, это воспоминания, написанные языком, которому может позавидовать профессиональный литератор. Жизнь на Колыме предстает перед читателем в многообразии геологического жития, в непростых человеческих взаимоотношениях, в деталях быта, в постоянном напряжении от существования в состоянии необъявленной войны с заключенными, в ежедневном преодолении… Десятки геологов: Борис Флеров, Валентин Цареградский, Алексей Васьковский, Сергей Смирнов, Евгений Машко, Израиль Драбкин, Николай Аникеев, Владимир Титов… горняки, прорабы, руководители и рабочие предстают перед нами в этой книге. И образы эти реальны, наделены человеческими чертами, ясны характеры этих людей, мотивы их поступков…
Неоконченный маршрут. Воспоминания о Колыме 30-40-х годов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Помню, тогда кто-то рассказывал, что жена Раковского Анна Петровна говорила кому-то, что они живут на Колыме уже 15 лет, и мне тогда казалось, что это очень долго, потому что мы к тому времени трудились там только 5 лет.
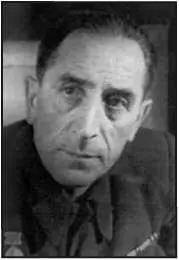
Геолог. В 1920 г. поступил в Иркутский политехнический институт.
В 1923 г. работал старателем на Алдане; с осени 1926 г, — прорабом в гостресте «Алданзолото»; затем — начальником разведрайона. Принял участие в Первой Колымской экспедиции. 12 июля 1929 г. в ручье, названном им Юбилейным, в Среднеканском районе Раковский лично обнаружил промышленное золото. В 1943 г. работал начальником ГРО Тенькинского ГПУ. На Колыме — до 1959 г. Первооткрыватель колымского золота. Лауреат Сталинской премии 1946 г. Награжден орденами и медалями СССР.
Одновременно с назначением нашим начальником С. Д. Раковского И. Е. Драбкин освободил должность главного геолога ТГПУ в связи со своим назначением заместителем начальника горного управления по олову. Теперь в нашем управлении стало уже два оловянных рудника, увеличилось количество и золотых приисков. Поэтому управлять выросшим производством стало труднее и понадобился специальный помощник по олову. А Драбкин, как известно, был специалистом по олову, во всяком случае, считался таковым на том основании, что почти два года возглавлял разведку Бутугычагского месторождения и разведал его хорошо.
Я никогда не пытался уточнить, что стало причиной этих перестановок. Не думаю, что причиной ее была необходимость учредить должность заместителя начальника горного управления по олову, потому что эта должность просуществовала недолго и в начале будущего 1944 года была упразднена, и Драбкин удалился из нашего управления. Не исключена, впрочем, и возможность того, что он не справился со своими обязанностями заместителя. Но, как бы то ни было, главным геологом ТГПУ стал теперь Н. П. Аникеев.
Все выглядело так, как будто Драбкину выдумали должность заместителя по олову только для того, чтобы освободить место начальника ГРО для С. Д. Раковского.
Непосредственное отношение к приезду в Усть-Омчуг С. Д. Раковского имел и неудачный дебют нашего Бобы Евангулова на клубных подмостках. Дело в том, что жена С. Д. Раковского была любительницей драматического искусства и постоянно участвовала в работе драмкружков. Поэтому и жена Евангулова Елизавета Афанасьевна тоже стала принимать участие в этом кружке и побудила к тому же мужа.
И вот когда драмкружок принялся разучивать пьесу Г. Ибсена «Кукольный дом» («Нору»), он взялся играть в ней роль адвоката-шантажиста Крогстада. Я не знаю, почему на репетициях не обратили внимания на то, что роль ему совершенно не дается, но он участвовал в этой роли и в спектакле и выглядел там белой вороной среди других, тоже не блестящих самодеятельных артистов. Он никак не мог справиться со своим голосом, говорил совсем не подходящим тоном, не мог добиться, чтобы звучали интонации, соответствующие содержанию его речей. Впрочем, казалось, что он совсем и не стремится к этому.
В нашей поселковой газете, которая называлась тогда «Большевик», была напечатана рецензия на эту постановку, где говорилось, что ему вначале роль не давалась, а потом он будто «вошел в образ». Это было искажение фактов. Он до конца спектакля портил своим присутствием на сцене всякое впечатление от игры всех других участников.
Впрочем, неудачный дебют возымел свое действие и заставил злосчастного артиста отказаться от дальнейших попыток снискать себе славу на клубной сцене. Но это могло произойти и против его воли. Могли и другие члены кружка, которым вряд ли понравилось, что «Нору» так испортило участие в постановке этого дебютанта, выразить протест против его участия в постановках. В дальнейшем он продолжал ежегодно на смотрах художественной самодеятельности выступать с декламацией стихов В. Маяковского. Делал он это хорошо и успешно соревновался в этом деле с Н. П. Аникеевым, который, однако, на сцену не выходил, а читал стихи только в кругу близких знакомых.

Сцена из спектакля Г. Ибсена «Нора и кукольный дом», поставленного в центральном клубе пос. Усть-Омчуга в 1947 г. В ролях: Б. Б. Евангулов и Г. А. Осепьян.
В театральных программках центрального клуба Усть-Омчуга кроме фамилий геологов и горняков вы найдете фамилии бывших политзаключенных, ссыльных и спецпоселенцев Теньки: А. А. Белова, А. А. Дзыгара, Э. Э. Валентинова, И. С. Варпаховского, Л. В. Варпаховской, Г. Г. Ветровой, Е. П. Докукина, А. Матусевича, П. С. Тенненбаума, Н. В. Тихановского.
Евангулов правильно считал, что у него чтение трудных стихов Маяковского получается неплохо, слушателям и, в том числе, мне тоже так казалось, и это подтверждалось тем, что в течение ряда лет на смотрах самодеятельности его выступления благосклонно принимались комиссией. Но однажды, кажется, в 1945 году в комиссии оказался знаток тонкостей этой отрасли искусства, который подверг его выступление уничтожающей критике, артист обиделся и совсем покинул подмостки.
Щербаков
К этой третьей военной зиме относится гибель Щербакова. Он был геологом. Несколько лет работал на разведках небольших и убогих арманских месторождений оловянного камня. Я его знал на протяжении 4 лет. Помню любимую его поговорку «нужно масло в голове иметь», которую он довольно часто повторял, что означало приблизительно «головой думать надо».
Произошло это на Чукотке, куда он был переведен всего около полугода назад. И вот едва началась полярная ночь, он трагически погиб, сгорел заживо.
Жил он в большом деревянном одноэтажном доме. Дом был обычного казарменного типа, коридорной системы. Из конца в конец тянулся коридор, по сторонам которого располагались комнаты. Центрального отопления в доме не было. Топлива тоже не было, и поэтому железные печки, которые стояли в каждой комнате, топили бензином. Для этого в каждой комнате стояла какая-то канистра или жестяная банка с бензином. Понятно, что это было полнейшее игнорирование правил пожарной безопасности и было крайне опасно, как жизнь на краю кратера извергающегося вулкана. Дом был обречен, так как вероятность того, что в любую минуту может вспыхнуть бензин, неосторожно пролитый в какой-нибудь из комнат вблизи топящейся печки, была очень велика.
Опасность пожара усугублялась еще полным отсутствием средств для тушения пожара, воды и тем, что дом был глубоко погребен под надутым снегом, вернее, под смерзшейся в плотную, твердую массу, под перетертой снежной пудрой. Это очень затрудняло вход и выход из дома, для чего нужно было опуститься или подняться по ступеням, вырезанным в плотном снегу в стене глубокой ямы, выкопанной у входной двери.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

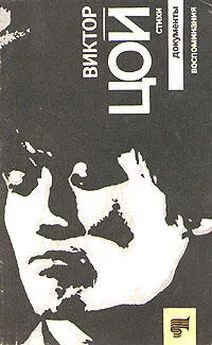


![Виктор Володин - Чернобыль. Обитель зла [litres]](/books/1067940/viktor-volodin-chernobyl-obitel-zla-litres.webp)