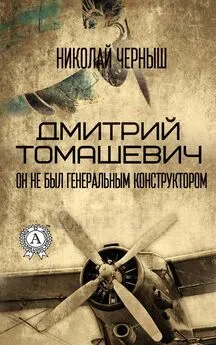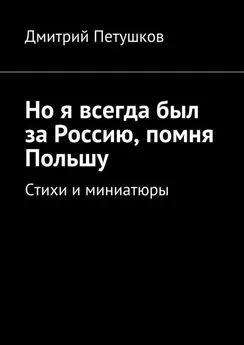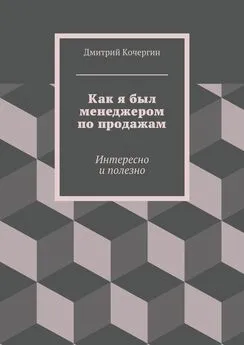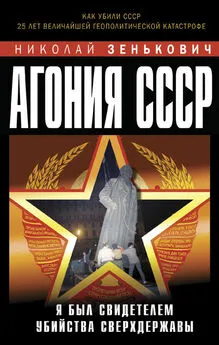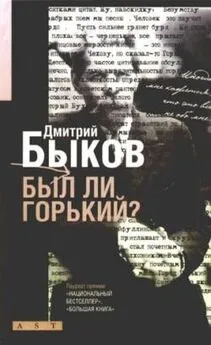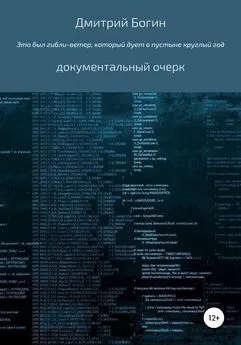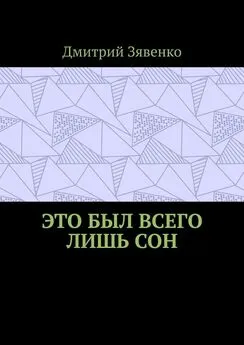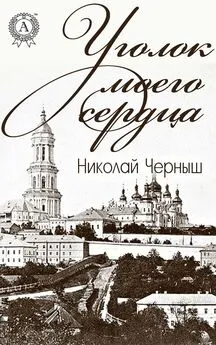Николай Черныш - Дмитрий Томашевич. Он не был Генеральным конструктором
- Название:Дмитрий Томашевич. Он не был Генеральным конструктором
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2018
- Город:Киев
- ISBN:9781387732029
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Черныш - Дмитрий Томашевич. Он не был Генеральным конструктором краткое содержание
Дмитрий Томашевич. Он не был Генеральным конструктором - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Настоящей хранительницей семейного очага была наша мама, Клавдия Андреевна. Родив первого ребёнка в свои едва-едва семнадцать лет, она проявила настоящий талант материнства, который до поры до времени дремал в тайниках её души. Мужу и детям она посвятила всю свою жизнь. Их благополучие и здоровье было поставлено ею во главу угла.
Она свободно владела тремя языками – украинским, польским и русским, много читала. Помнила наизусть множество стихов. Несмотря на то, что на ней держался дом и немалое хозяйство, много времени уделяла детям, читала им книги, не ограничивала их в саморазвитии. Была глубоко верующим человеком, приучила детей к ежедневным молитвам, но спокойно восприняла наш отказ от религии, когда мы подросли. Клавдия Андреевна прожила нелёгкую жизнь, особенно много бед на неё свалилось, начиная с десятых годов ХХ века, о чём ещё будет повод рассказать, но все они не сломили её духа.
Окрестные крестьяне называли маму барыней, но это была скорее дань укоренившейся со старых времён привычке. Ну, какая ж это барыня, если она не чуралась огородных забот, привлекала в страдную пору детей для посадки рассады или прополки той же картошки? А как же иначе, ведь огромную семью надо было кормить, и тут без натурального хозяйства никак не обойтись. На лесных полянах паслись коровы, благодаря которым дети выросли на молоке в буквальном смысле. Осенью, в пору сбора урожая обширный погреб заполнялся картошкой, огромными тыквами, свёклой, морковкой, прочими плодами огорода, бочками с квашеной капустой и солёными огурцами, бутылями с яблочным соком и лёгким яблочным вином. Большой огород, живность и сад были весьма ощутимым довеском к жалованью отца семейства, это факт.
Я уже говорил, что Клавдия Андреевна и Людвиг Феликсович дали жизнь одиннадцати детям, но братик Саша умер младенцем в 1889 году. Эта беда произошла по недосмотру няньки, когда малыш съел слишком много так называемой пьяной вишни, то есть содержащие алкоголь ягоды из вишнёвой наливки [14] Вишнёвая наливка делалась следующими образом: спелой вишней наполняли 4-5-литровую бутыль на ¾, а сверху насыпали сахар. Потом ставили, как правило, на подоконник – поближе к солнцу. В результате через 4–5 месяцев получали слабоалкогольный напиток крепостью до 10 0 . Иногда для повышения крепости доливали водки. По готовности напиток сцеживали, а «пьяную» вишню использовали для еды, в том числе и для начинки вареников.
. Ребёнок отравился, и спасти его не удалось.
Таким образом, к середине 1900-х годов в семье насчитывалось 10 детей. Непреложным законом было то, что старшие дети опекали и заботились о своих младших братьях и сёстрах. Конечно, как это часто бывает, не обходилось без ссор и недоразумений – дети есть дети, но общая атмосфера была исключительно тёплой и дружественной. С самого начала установился порядок, при котором вся семья собиралась за столом в определённое время на утренний чай, он же завтрак, а затем на обед и ужин. Каждый знал своё место за столом. Кроме того, кто-то из девочек каждый день дежурил по столовой. В их обязанности входило накрыть стол и убрать его после трапезы. Общий сбор, однако, происходил далеко не всегда по той простой причине, что большую часть года кто-то из детей был вне семьи, – на учёбе либо в Белоцерковской гимназии, либо в Киеве. Дома они появлялись лишь в дни рождественских, пасхальных и летних каникул.
Начиная с 1893 года, когда стал гимназистом наш самый старший брат, первенец Виталий, в семье на протяжении десятков лет не переводились учащиеся гимназий и студенты киевских вузов. Получение детьми среднего, а потом и высшего образования стало не просто амбициозной целью родителей, но смыслом их жизни.
Учёба в гимназии или в реальном училище 20–30 лет назад стала делом обыденным, и в большинстве семей чиновников получением детьми среднего образования дело ограничивалось. Кто-то считал, что его вполне достаточно для дальнейшего успешного продвижения в жизни, и они были по-своему правы. Кто-то не имел средств для обучения детей в университете или институте, и в этом тоже была своя правда. Кто-то не видел в своих чадах задатков и способностей, а кто-то всерьёз не занимался выявлением и развитием этих самых талантов с самого раннего детства. К счастью, нашими родителями руководили другие настроения, над ними властвовали иные ценности. С раннего детства детям ненавязчиво прививали тягу к знаниям, интерес к науке и технике. Это происходило и в процессе ежедневного общения, и через личный пример, и посредством чтения книг и журналов, и путём предоставления детям определённой свободы в выборе увлечений и пристрастий. Поэтому, уже становясь гимназистами, сыновья и дочери твёрдо знали, что этим, то есть, гимназией их образование не закончится.
Двери белоцерковской гимназии для нас, детей дворянина Людвига Томашевича были открыты, но учёба в ней требовала ощутимых затрат. Белую Церковь отделяют от Ракитно 25 вёрст, которые в те времена были серьёзным препятствием – дорога туда и обратно каждый день отнимала массу времени и средств. Пришлось искать для новоявленных гимназистов пристанища в Белой. Вариантов было два: либо у родственников, если таковые были, либо в частном пансионе для гимназистов. Так случилось, что дети Людвига испытали оба. Поначалу, когда учились старшие дети – Виталий и Анна, они жили в доме младшего брата отца, дяди Владислава на улице Запровальной.
К тому времени наш дядя обосновался в Белой Церкви в качестве нотариуса. Со временем его семья, как и у старшего брата, разрослась, места для новых подросших племянников и племянниц явно не хватало, и в 1904 году Людвиг Феликсович с согласия гимназического начальства организовал небольшой пансионат для гимназистов в специально приобретённом для этой цели убогом строении на той же Запровальной. Назвать эту старую развалюху домом, значит согрешить против истины. Поэтому на её месте был выстроен небольшой новый дом. Наряду с детьми из других семей (за плату, разумеется), тут проживали Виталий, учившийся в выпускном восьмом классе, я с Евгением и Лидия с Натальей под неусыпным контролем хозяйки пансиона Елены Викентьевны Ковальской, нанятой для этой цели папой. Анна окончила семь классов женской гимназии годом ранее.
Так сложилось, что в какой-то момент число детей наших родителей, одновременно обучавшихся в гимназии, выросло до пяти человек! А если к ним добавить детей дяди Владислава, которые тоже тут набирались уму-разуму, то выходит, что в белоцерковской гимназии образовалась целая команда кровных родственников Томашевичей, которой никто из сверстников не мог противостоять.
Кроме проблем с жильём были постоянные заботы о питании, форменной одежде, учебниках и прочем, без чего не обходится учёба. Часть этих расходов покрывалась за счёт гимназистов-пансионеров, родители которых сдали своих детей под опеку той же Ковальской. Кроме того, все мы, Томашевичи-младшие, с раннего детства познавшие труд, и тут не оплошали. Практически все прекрасно учились и успевали подрабатывать репетиторством, избавляя, таким образом, родителей от излишних затрат. Заработанных, например, мною и Женей денег хватило даже на приобретение за 23 рубля вёсельной лодки-плоскодонки, которую назвали «Мрія». Впервые мы испытали её летом 1908 года, когда я со своим другом-одноклассником Володей Линником возглавили ватагу гимназистов и прибыли на каникулы из Белой Церкви в Ракитно, спустившись по Роси.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: