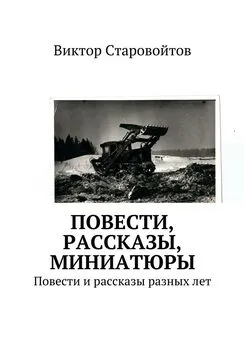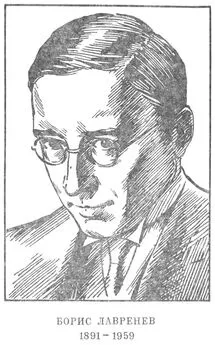Вениамин Додин - Повести, рассказы, публицистика
- Название:Повести, рассказы, публицистика
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вениамин Додин - Повести, рассказы, публицистика краткое содержание
Повести, рассказы, публицистика - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И всю массу этих «экспонатов," как именовали их самарские аборигены, нужно было обрабатывать и кормить.
Да, тогда мастера, — в Германии пусть, — водились ещё. И в колонии КРЯЖ тоже. Здесь, и нигде больше, не встречал я такого класса механизаторов, металлообработчиков, ювелиров, химиков, пищевиков, столяров, портных, сапожников… Войною поднятые со дна новохозяева жизни жить желали по–европейски. И что б сразу. Тотчас! Понимая это как право безудержно и нагло грести под себя. Потому кому–то надо было строить им «немецкие» дома, поддерживать в «европейском» состоянии трофейные автомобили и технику, шить «парижские» платья и «американские» туфли, комстролить «английские» ювелирные разности…Для того нужны были армии новых мастеров — зэков, рабов… Дисциплинированных, умелых и талантливых…
Много ли сегодня найдется механиков, ИЛИ ЧАСОВЫХ МАСТЕРОВ, способных восстановить платиновый репетир «Греббс»Паул работы Фламандкой школы 1367 года — семи циферблатный хронометр–календарь астрономического времени с одиннадцатью мелодиями французской классики?…Размером в плоское куриное яичко… И пустить это чудо в ход. Разобрав его, выправив раздавленное и ИСкореженое нутро, выточив прежде не ПОНЯТНЫЕ мастеру микроскопические детали — невосстановимые или вовсе утраченные — на им же восстановленном труборезном чудО-ЮДИЩЕ «ДИП-300»! ЧЕЛЯБИНСКОЙ АРТЕЛИ. Главное — подобрав для полсотни деталей специальные сплавы!
А много ли столяров найдется, что на моих глазах воссоздали «утраченный» /в смысле украденный из дворца Цвингер нашим многоуважаемым маршалом Рокоссовским/ гарнитур столовой 17–го века? Маршал возвращать трофей не возжелал. Но милостиво согласился позволить его обмер. Конвой возил мастера Ивана Дмитриевича Полканова под Москву, на маршальскую дачу. Там вместе с архитектором Хруцким из Куйбышева и Градовым из Москвы — тоже архитектором, в недалеком будущем директором Института Градостроительства Академии Строительства и Архитектуры СССР, сняли с гарнитура чертежи. И «дома», в колонии, Полканов, СОБСТВЕННЫМ ИНСТРУМЕНТОМ(из чинара!), столовую сработал. Да так, что знаменитый европейский музей согласился забрать копию вместо порядком побитого и поистрепанного оригинала.
И еще, — много ли теперь найдется механизаторов, которые управляя рычагами экскаватора, пятидесятисантиметровыми зубьями полутора кубового ковша почесывают нежно «за ушком» своего сменщика, стоящего перед многотонной махиной. Гладят его по обнаженному животу. А напоследок теми же зубьями аккуратно снимают с него кепочку. И привязанной к одному из зубьев гребенкой расчесывают на его макушке ни капельки не стоящий дыбом ОТ ЭТОЙ ЛАСКИ стриженный ежик волос. Наконец, стремительный разворот стрелы с ковшом вокруг оси машины. И сходу, без лишнего движения, подобранная с асфальта ковшом кепочка водворяется на голову сменщика… Целую, заметьте, голову.
…Или… И такие мастера не могли не быть в колонии.
Воскресный день. Шмон прошел. Народу команда: отдыхать! Он и отдыхает у бараков на солнышке, отходит от вонючих клоповников нар. От нечего делать толчется за проволочными панелями зоны местный житель, высматривает своих.
У самой кромки двухскатной крыши старинной постройки трехэтажного здания бытовок (бывшего помещения дежурных железной дороги) сидит на корточках мастер. Очередное имя его и фамилия в бесчисленном ряду смененных — Саша Мартыщенко. Профессия — домушник. Соцположение — «в законе». Вниз, до проезда — метров десять–одиннадцать. Он и смотрит туда вниз, куда секундою назад приземлилась брошенная им кепка. И прыгает за нею вслед.
— Ничтяк! — произносит Саша, отряхивая ладони рук. — Вот, когда ночью, незнамо с какого этажа и куда — там сложнее… Но обходилось, — привычка!
* * *
Ещё несколько недель…
…Щит прошел по тоннелю, стал в забой, начал проходку. За всю его смену–команду Она спокойна. Спокойна за маркшейдера. Долго ли ждать? По трассе на стыке под кромкой Волги и границей Безымянской ПРОМПЛОЩАДКИ кроме песчаников — труднопроходимая базальтовая гряда морены. Есть за что беспокоиться…
Пока Она перебирает, проверяя,
* * *
Одним из безусловных мастеров своего дела был в колонии и Аркадий Николаевич Ширяев. Сын бывшего председателя Российского Императорского Банка, он рано обратил на себя внимание ВЧК–ОГПУ–НКВД. Сполна испытал на себе все без исключения преимущества нового режима, свалившегося на русское дворянство. Но, человек одаренный, с подачи академика архитектуры Жолтовского непостижимым образом сумел проучиться несколько курсов на архитектурном факультете Академии художеств в Питере. И после ее разгона сорока ромбовым Бубновым за «художества» в туалетах — доучиться сумел вместе с Борькой Рубаненко (будущим создателем и директором Головного Института ЖИЛИЩА и вице президентом Академии строительства и архитектуры) в питерской же «Гражданке» и даже получить там диплом. И это — при шести промежуточных отсидках за происхождение!
После диплома его снова нашли. И с новым, но уже солидным сроком загремел он в Средне—Азиатские места лишения свободы, да и жизни.
Ему повезло: начал отстраиваться кишлак Алма—Ата. Когда–то крепость Верный. Безусловно, — я не специалист, — в чем–то повезло и кишлаку Ширяев внес в облик сооружавшегося городского центра классические мотивы своего Петербурга, которого любил беззаветно.
В Алма—Ата он проработал годы, — подконвойным зэком, зэком безконвойным, ссыльным. С началом Второй мировой войны его с большим этапом перегнали под Куйбышев (Самару). Сразу после Сталинградского перелома и этот волжский город начал отстраиваться. Менять азиатский облик. Масса заказов на проекты и множество эвакуированных или пригнанных зэков–архитекторов привели к созданию Специального КБ. Сперва оно работало на Безымянке. В 1943 году его перевели в колонию КРЯЖ и поставили начальником над ним совершенную бездарь — вольного «архитектора малых форм» Хруцкого. Того самого, который под руководством Полканова обмерял краденый гарнитур. Хруцкий действительно был приверженцем именно малых форм в архитектуре. Он пытался выдавать идеи конструкций чрезвычайно дефицитной в то время продукции — платяных шкафов, кроватей и столов со стульями. Предтеч которых граждане спалили в холодные военные зимы. Проектированием их у него занимались бывшие девушки–студентки, умевшие хорошо чертить. Проекты, выходившие из–под их рейсфедеров и подписанные Хруцким, были чудовищны. Даже сам Хруцкий это понимал. Потому, иногда, сильно рассердясь и особенно громко похрюкивая — именно, именно похрюкивая /это у него такой кашель невсамделищный был/, садился за доску и начинал композировать сам. Из этого рая не выходило ничего: он не умел даже компановать лист, Чертеж вылезал сразу за рамку и как бы зависал вне её…обглоданным… Но мебель все же выходила в натуре премиленькой — я уже рассказал о мастерах в мебельном цеху. Они относились к чертежам Хруцкого как один мастер–печник из «Кавежединских» (пригнанным из Манчьжурии русских, имевших счастье быть служащими на строительстве Китайско–восточной железной дороги) — к предложенным ему мною, заказчиком, печным схемам аж самого Грумм—Гржимайло из его знаменитого, ну, прямо, раритетного альбома.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: