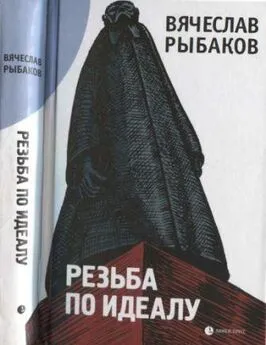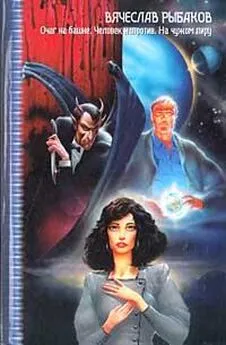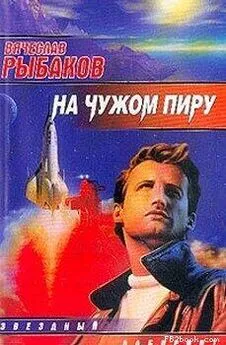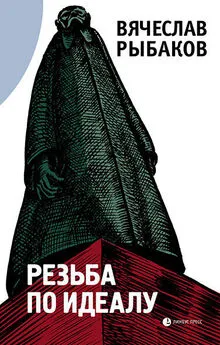Вячеслав Рыбаков - Резьба по Идеалу
- Название:Резьба по Идеалу
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛИМБУС ПРЕСС ООО «Издательство К. Тублина»
- Год:2018
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-8370-0864-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вячеслав Рыбаков - Резьба по Идеалу краткое содержание
Резьба по Идеалу - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Это идеальный управленец — эффективный, мотивированный на результат и оттого не зацикленный на выгоде исполнитель верховной воли.
И наконец Конфуций, который только и достоин быть этой самой верховной волей. Потому что его мечта — благоденствие всей Поднебесной. Он вмещает в заботливом сердце своём всю страну.
И в чём же заключается чаемое им благоденствие, каков же ожидаемый эффект его заботы?
Ничего противоестественного. Ничего экстравагантного. Ничего нарочито выдуманного. Ни слова об организационных частностях — они решатся в рабочем порядке. Он не мечтает о том, чтобы, скажем, каждый мог съедать по килограмму мяса в день. Ведь кому-то этого будет мало, а кому-то, наоборот, много; кто-то всё равно останется голодным, а кто-то не доест. Мечтать надо не о равном для каждого килограмме, а о том, чтобы каждый в равной степени не чувствовал себя голодным. Значит — о состояниях, по большей части состояниях духовных, которые возникнут тогда, когда частности окажутся улажены и решены. О них, об этих состояниях, собственно, мечтают все нормальные люди — только каждый для себя или в лучшем случае для своих ближайших родственников. Старики мечтают о своём, мужчины, находящиеся в расцвете сил, на пике деятельного возраста, — о своём, и дети — о своём. Мечта Конфуция интегрирует частные обыденные мечты всех, и не более того. Его мечта — просто объединённая мечта всех. Он способен мечтать за каждого о том же самом, о чём мечтает каждый, и суммировать все частные мечты. Спокойная старость, доверие между теми, кто занят общим делом, и сытые дети под присмотром. Вот и всё.
Но для того, чтобы эта мечта могла быть реализована, все подданные должны стать такими, как Цзы-лу, и все служащие государственного аппарата — такими, как Янь Юань. Тогда-то и решатся все проблемы.
Конфуций не сжигает реальный мир. Он просто хочет населить его людьми, держащими в узде свои эгоистичные мотивации. Он не стремится ампутировать у человека эгоизм. Это невозможно, да и не нужно, ибо чревато равнодушием и апатией. Он старается разработать образовательные и воспитательные методики, предложить стимулы, благодаря которым человек сам мог бы контролировать свой хватательный рефлекс.
Когда же он напрямую высказывается об идеальном государстве, его слова вновь и вновь поражают своей кажущейся простотой и непритязательностью.
«… Я… слышал, что правители государств и главы семей не страшатся, что у них мало богатства, а страшатся, что оно распределено неравномерно, не страшатся, что у них мало людей, а страшатся, что [у людей] мало покоя. Ведь при соразмерности [распределения] не бывает бедных, при гармонии [в обществе] не заметно нехватки людей, а когда спокойно, не бывает опасностей».
То есть, другими словами, пусть скудно, но справедливо; так, чтобы не разгорались алчность и зависть. Пусть немного, зато внутри не имеющей разрывов сети гармонично работающих социальных и семейных связей. Тогда все спокойны, а когда население спокойно, то и опасаться нечего.
При этом для материальных благ не предусматривается никакого обобществления — просто соразмерность распределения.
А ещё — даже слова нет о каком-либо принуждении со стороны начальства. Наоборот, все самостоятельно, рутинно исполняют те привычные, естественные обязанности, что соответствуют месту каждого в семейной или социальной иерархии.
Или:
«Цзы-гун спросил, как править. Учитель ответил: „Так, чтобы было достаточно пищи, достаточно военной силы и народ доверял“. Цзы-гун спросил: „Буде возникнет нужда отказаться от чего-либо, с чего из этих трёх начать?“ Учитель сказал: „Отказаться от достатка военной силы“. Цзы-гун спросил: „Буде возникнет нужда снова отказаться от чего-либо, с чего из оставшихся двух начать?“ Учитель сказал: „Отказаться от достатка пищи. Ибо спокон веку смерти никто не избегал, а вот без доверия народа [государству] не устоять“».
Иерархия приоритетов для тех, кто управляет страной, здесь обозначена с абсолютной ясностью и жёсткостью. Но это высказывание следует рассматривать только в паре с предыдущим. Семья только тогда и доверяет её главе, а народ только тогда и доверяет правителю и его аппарату, когда те в первую очередь заботятся о справедливости распределения материальных благ и гармонии человеческих отношений среди тех, кто им вверен Небом. Добиться доверия нельзя, добиваясь его специально. Доверие возникает само собой, когда верховная власть справедливо управляет общим хозяйством и ХОТЯ БЫ НЕ МЕШАЕТ функционированию уже существующих, освящённых временем, не требующих для своего поддержания никакого внешнего насилия межчеловеческих отношений. Это и является гармонией. Вот когда люди знают, что управление ставит именно такие цели — тогда, и только тогда в трудную минуту можно пожертвовать и материальным достатком, и оборонным успехом. Доверие всё равно останется.
В «Ли цзи» картина идеального общественного устройства описывается несколько более подробно, хотя рядом с объёмистыми европейскими трактатами она всё равно очевидно проигрывает и в велеречивости, и в пафосе, и в полном отсутствии упоминаний каких-либо врагов идеального порядка, хоть внешних, хоть внутренних. Главными объектами описания являются не обезличенные новации, а обыденные люди. Язык не поворачивается называть предлагаемые образы общественным «ПЕРЕустройством» — это не более чем «БЛАГОустройство» общества, уже существующего. В крайнем случае — возвращение к устройству, некогда существовавшему, но утраченному, испортившемуся от человеческого и в первую очередь управленческого небрежения. Стоит лишь с этим небрежением покончить — и тогда всё или хотя бы многое вернётся.
«Когда шли по великому пути, Поднебесная принадлежала всем, [для управления] избирали мудрых и способных, учили верности, совершенствовались в дружелюбии. Поэтому родными человеку были не только его родственники, а детьми — не только его дети. Старцы имели призрение, зрелые люди — применение, юные — воспитание. Все бобыли, вдовы, сироты, одинокие, убогие и больные были присмотрены. Своя доля была у мужчины, своё прибежище — у женщины. Нетерпимым [считалось] тогда оставлять добро на земле, но и не должно было копить его у себя; нестерпимо было не дать силам выхода, но и не полагалось [работать] только для себя. По этой причине не возникали [злые] замыслы, не чинились кражи и грабежи, мятежи и смуты, а люди, выходя из дому, не запирали дверей. Это называлось великим единением».
Таков предельный идеал. Для современного авторам «Ли цзи» общества — это в чистом виде утопия, хотя обнаруживается она не на далёком острове и не в неопределённом грядущем, но в собственном прошлом. И уже хотя бы поэтому в ней нет ничего противоестественного, искусственно выдуманного, сконструированного чисто по теории и навязанного силком. Её следует иметь в виду как непреходящий, обладающий абсолютной ценностью нравственный и социальный ориентир.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: