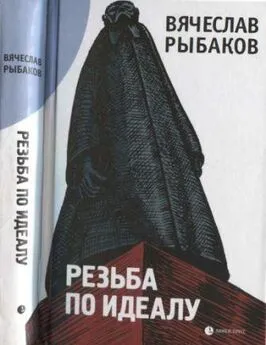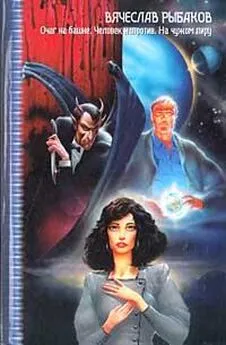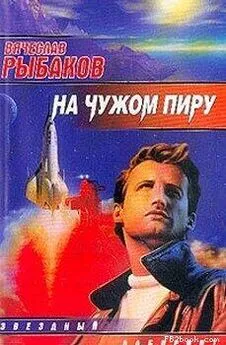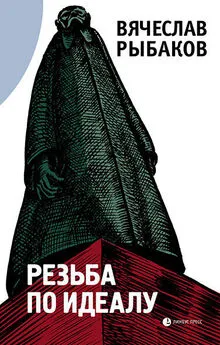Вячеслав Рыбаков - Резьба по Идеалу
- Название:Резьба по Идеалу
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛИМБУС ПРЕСС ООО «Издательство К. Тублина»
- Год:2018
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-8370-0864-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вячеслав Рыбаков - Резьба по Идеалу краткое содержание
Резьба по Идеалу - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Конечно, неизбывные свойства человеческой природы никуда не деваются, хоть стой двойка, хоть падай. Но мы говорим сейчас не о биологических константах, но о способах, которыми различные культуры их оправдывают, облагораживают, обуздывают и пытаются направить в наиболее приемлемом именно для данного социума направлении.
Хорошо, но на пути даже простенького нравственного требования «любить людей» сразу встают эгоизм, эгоцентризм, себялюбие. Именно поэтому Конфуцию пришлось разъяснять свой термин раз за разом, причём порой — довольно специфическим образом:
«Янь Юань задал Учителю вопрос о гуманности. Учитель сказал: „Преодолей себя и обратись к ритуалу“».
То есть человеколюбие — не абстракция. Это совершенно конкретное, для каждой ситуации своеобразное исполнение своих подразумеваемых высокой этикой обязанностей по отношению к тому или к тем, в отношения с кем ты в данный момент оказался включён. Человеколюбие старшего — забота о тех, за кого он в ответе. Человеколюбие младшего — отклик на заботу, почтительное и творческое, от всей души, повиновение старшему и мягкое увещевание его, если младшему кажется, что старший в чём-то неправ. Порой для этого надо наступать на горло своим сиюминутным прихотям, пристрастиям, порывам.
Не преодолевая себя, невозможно любить людей. Но преодолеть себя можно только самому. Ни мешочки с порохом, ни стражи, ни сифогранты, никто другой за тебя этого не сделает. Извне можно только сломать — но тогда уже ни о какой любви речи и быть не может.
Пользуясь хотя бы теми высказываниями Конфуция, что приведены выше, можно попытаться реконструировать систему стимулов, подвигающих совершенного мужа к его трудной, но благородной и абсолютно необходимой деятельности.
Идеальный управленец мотивирован:
— любовью к своей семье и приносящим удовлетворение прежде всего ему самому привычным выполнением семейных обязательств, соответствующих его месту в семейной иерархии;
— самоуважением и стремлением его сохранить;
— тягой к самосовершенствованию;
— стремлением к творческой самореализации;
— желанием приносить пользу;
— личным участием в коллективном улучшении мира;
— долгом;
— преодолением примитивно эгоистичных побуждений, прежде всего — своекорыстия.
Ничего нереального и не свойственного человеческой природе в перечне мотиваций цзюньцзы нет. Но, конечно, они присуши в первую очередь очень хорошему и очень порядочному, очень хорошо воспитанному человеку. С другой стороны, они сами по себе имеют мощную воспитательную составляющую и способствуют улучшению человека, увеличению степени его порядочности. Они целиком погружены в реальный мир, но при этом отнюдь не подчинены ему и его превратностям, его тёмным сторонам. Напротив — они бросают этим превратностям вызов. А такой вызов для многих людей сам по себе служит прекрасным стимулом жизненной активности.
Говоря по совести, любой современный работник, занимаясь своим делом, рад-радёшенек был бы иметь такой спектр мотивов.
Но, с другой стороны, перспектива работать на износ, руководствуясь исключительно подобными соображениями, наверняка привела бы в ужас тех, кто убеждён, что и сам он человек идеальный, просто ему всё время не везёт и всё время мешают бесчисленные плохие парни, и мир, в общем, уже достиг совершенства, просто надо в нём устроиться посытнее и повольготнее.
Нетрудно заметить, что практически все перечисленные выше мотивации цзюньцзы, пусть одна в большей степени, другая в меньшей, но — все, могут быть энергетически запитаны лишь от одного-единственного источника: искреннего желания привести реальный мир в состояние, по возможности близкое к тому состоянию, которое мыслится для мира (в том числе и для себя самого как части этого мира) желательным.
Человек увлечён своей конструктивной деятельностью, в процессе её успешного осуществления он сам делается всё лучше, он ощущает от неё удовлетворение, гордится собой и уважаем другими, если добивается результата. Мотивационный огонь горит в его груди и требует определённого выхода в поведении, а выход этот, в свою очередь, оформлен традиционными стереотипами коллективистского поведения. В принципе это уже само по себе может обеспечить статистическое преобладание социально желательного поведения над социально нежелательным.
Чуть менее века назад знаменитый Сомерсет Моэм в «Падении Эдварда Барнарда» отдавал дань лукавому мудрованию так: «Кто такой Арнольд Джексон — плохой человек, совершающий добрые поступки, или хороший человек, совершающий дурные поступки? …Может быть, на самом деле вовсе и нет такой уж разницы между людьми. Может быть, даже лучшие из нас — грешники и худшие из нас — святые. Кто знает?» Рафинированные европейцы, видимо, уже к тому времени — не говоря уж о нынешнем — начали подзабывать: святой и грешник отличаются не тем, что один никогда не грешит, а другой никогда не совершает ничего доброго. Кардинальная разница в том, что один, порой, конечно же, совершая нечто не одобряемое традиционной (в европейском случае — христианской) системой ценностей, испытывает муки совести, кается и благодаря этому с течением времени грешит всё меньше, а другой, впадая в грех, возбуждённо радуется, испытывая чувство неведомой святошам свободы, и куролесит всё пуще. Праведник и грешник — не численные показатели, а вектора. Не состояния, а процессы.
Цзюньцзы — тоже не благоприобретаемая пожизненная характеристика, но тяжкое и сладостное усилие длиною в жизнь.
Конфуцианская теория и сформированная ею этическая картина мира, в которой цзюньцзы занимали одно из центральных мест, встретили реально складывавшуюся бюрократию как родную. В них заранее были предусмотрены все основные чиновничьи «хорошо» и «плохо». Культура была готова к возникновению и развитию нового явления, более того — она его ждала.
Совершенный муж, идеальный управленец, сам по себе стал едва ли не основным элементом китайской утопии правления, утопии превращения мира сущего в мир должный. Мало того — он оказался наиболее проработанным, наиболее живым, наиболее манящим её элементом. Это-то и позволяло китайским мыслителям описывать сам должный мир столь сжато и обобщённо. Достаточно было наметить основной вектор преобразования: обихоженные, сытые старики, доверяющие друг другу деятельные мужчины во цвете лет, вдовы и бобыли, имеющие убежище и пристанище, здоровые дети, и всё при том выполняют присущие именно их положению обязанности и пользуются подобающими льготами (скажем, вполне реальными в средневековом Китае налоговыми льготами несовершеннолетних, вдов, стариков). А сами организационные и технические тонкости решались бы под руководством воспринимающего волю Неба правителя идеальными управленцами в рабочем порядке. На то эти управленцы и идеальны.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: