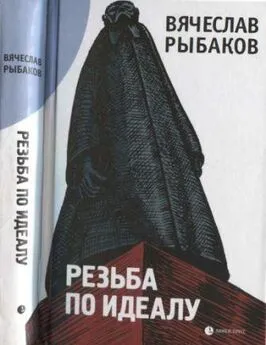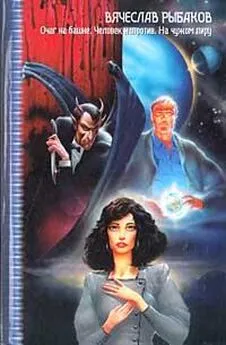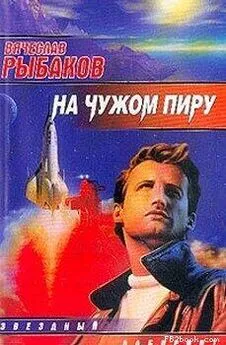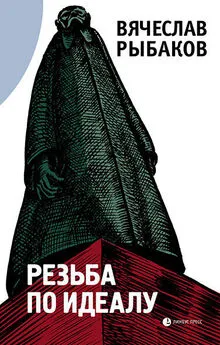Вячеслав Рыбаков - Резьба по Идеалу
- Название:Резьба по Идеалу
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛИМБУС ПРЕСС ООО «Издательство К. Тублина»
- Год:2018
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-8370-0864-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вячеслав Рыбаков - Резьба по Идеалу краткое содержание
Резьба по Идеалу - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Дальше.
Почему-то на с. 170 Елена Семёновна панибратски называет, в общем-то, всем грамотным людям так или иначе известного Цинь Шихуанди, чей титул можно понять примерно как «первый величайший император династии Цинь», просто Цинь Хуаном (по аналогии с дон Хуаном, не иначе), что значит, особенно в контрасте с реальным титулом, нечто вроде «имперашка из династии Цинь». А ведь здесь самый смак в том, что он Хуанди, то есть «величайший император» (этот титул именно данный персонаж применил к себе впервые, и затем так титуловались китайские владыки в течение более чем двух тысяч лет), и то, что он Ши, то есть «первый», потому что, во-первых, он действительно впервые реально объединил Китай в административно однородную империю и прекратил длившиеся несколько веков междоусобицы, а во-вторых, он так его лихо объединил, что второй император Цинь на престоле не засиделся, а третьего и вообще не было.
Или писательница полагает, что Цинь Шихуанди — это что-то вроде «фамилия-имя-отчество», и для простоты отчество можно опустить, а имя применить в его уменьшительном варианте? Ну не уважаем мы тиранов, так с чего нам их величать по полной? Станем запросто, без чипов, типа: «Вовка, хули ж ты тут расселся!» (книга Чижовой, как и подобает всякому глубоко интеллигентному произведению, полна обсценной лексики, так что. читавши её два вечера подряд, я полагаю и себя вправе слегка похулиганить).
Почему-то на с. 168 Елена Семёновна от лица своего как бы китаиста уверяет нас, что в начале династии Чжоу в Китае была какая-то «удельная раздробленность». Но на самом деле государство Чжоу распалось на фактически независимые от верховного вана княжества много позже, а как раз в начале-то существовала нормальная властная этажерка, многоступенчатое делегирование полномочий. Разумеется, насколько оно было возможно на том уровне средств сообщения и контроля.
Почему-то от его же лица на с. 177 заявляет, что начало использования быков в качестве тягловой силы вызвало в Древнем Китае «массовое бегство рабов». Откуда? Из Китая? Или из-под быков? Да и вообще — были ли в ту пору в Китае «массы» рабов, чтобы «массово» бегать? Это вопрос, между прочим, открытый. И почему волы вдруг так повлияли на (ладно уж) рабов? А по большому счёту — зачем читателю эта информация, во-первых, сомнительная, а во-вторых, ничего не дающая ни уму, ни сердцу, ни сюжету?
Нулевая нужность, немотивированность, никчемушность сведений, содержащихся в китаеведных вкраплениях, плюс казённые, не из художественной литературы фразы, которыми они написаны, наводят на мысль, что Елена Семёновна просто открывала наугад какой-то учебник и списывала первые попавшиеся несколько строк…
А ведь история Китая могла бы и впрямь дать ей головокружительный простор для интереснейшей, в высшей степени содержательной игры. Для ассоциаций, для примеров и контрпримеров… При её-то сюжетной посылке! Несколько раз не китайские народности завоёвывали северную половину страны вплоть до Янцзы, выполнявшей в реальности ту самую роль, что в книге Чижовой была доверена Уральскому хребту. А там, на севере от Реки, располагалась, между прочим, прародина ханьцев, исходный очаг их цивилизации. Как китайцы взаимодействовали с завоевателями, как перемешивались с ними, какую политику вели в первый раз, какую — во второй, как усваивали элементы чужой культуры и как делились элементами своей… Тут бы, казалось, и карты в руки! Ведь пальчики оближешь при проблематике «Китаиста»! Но — нет. Учебник не на той странице открылся? Или как раз эти сюжеты уважаемой писательнице были ни к чему, потому что китайцы в конце концов всегда возвращали себе своё?
На с. 162 вдруг всплывает имя китайского знакомого нашего китаиста — Ду Жонг. Простому читателю, конечно, и горюшка нет — мало ли в Бразилии Педров, а в Китае Жонгов? Но китаист, если он хоть мало-мальски настоящий, сразу чует тут, если пользоваться терминологией кровавых сталинистов, низкопоклонство перед Западом.
В чём закавыка?
В том, что китайский слог, который в русской традиции транскрибируется и читается как «жун», в западных языках, где фонетика победнее, передаётся латиницей как «jong» (французская система), «jung» (система Уэйда-Джайлза) или «rong» (система пиньинь). Есть и ещё версии — старая немецкая система, например… На первом курсе востфака мы, помню, страшно смеялись, потому что на латинице название одной из главных китайских газет — «Жэньминь жибао», то есть, переведём поточнее, «Народное ежедневное информирование», пишется «Renmin ribao», а от «Рибао» уж и до моей фамилии недалеко… Вот из какого-то из европейских языков это «Жонг» к Чижовой и прилетело. По-нашему, стало быть, знакомца главного героя звали простым китайским именем Жун по фамилии Ду. Условность, конечно. Но и то, что кофе — он, и то, что идти следует на зелёный свет светофора, а ширинку лучше держать застёгнутой — это тоже условности. Вообще любая культура как таковая — это огромная, сложнейшая, слежавшаяся воедино многослойная условность. По соблюдению её малых составляющих мы отличаем воспитанного человека от невоспитанного, знающего от незнающего, своего от чужого.
Кстати, агрессия западных транскрипций — нынче вообще беда. Спокон веку мы знали, к примеру, что в Японии есть гора Фудзи-яма и ею надо любоваться. Но по-европейски Фудзи будет Fuji. И вот у нас, не ведая даже, что речь идёт о той же самой всем давно известной горе, уже пишут направо и налево какую-то Фуджи. Причём сами же японцы и китайцы уверяют, что человеку, не знающему восточных языков и просто читающему буквы своей латиницы или своей кириллицы, русская транскрипция куда ближе передаёт звучание соответствующих восточных слов, нежели транскрипции западные. Самые знаменитые примеры: Токио по-японски звучит как Токё. У нас есть буква «ё», и наше Токё звучит практически адекватно японскому. Но в Европе, как сказали бы в «Поле чудес», нет такой буквы, и там пришлось в своё время придумать написание Tokyo. А в России про японскую столицу узнали впервые из европейских книжек. Увидели Tokyo, переписали русскими буквами… Вот и прижилось Токио. То же с «тоётой» — «тойотой». Однако ж, например, про фирму «Мицубиси» мы знали уже сами давным-давно. Даже у братьев Стругацких (один из которых был классным японистом, если кто не помнит) ещё в книжках начала шестидесятых годов прошлого века в качестве отживающих пережитков капитализма упоминаются концерны Мицуи и Мицубиси. Но на латинице Мицубиси — Mitsubishi. Причём тот звук, который мы передаём как «с», а европейцы — как «sh», по-японски звучит примерно как наше «щ» и даже ещё чуть ближе к «с», то есть наша транскрипция, куда точнее («щи»). Но куда там! В Европе «шы» — стало быть, и нам надо говорить «шы». СтарШЫй приказал. Значит, МицубиШЫ. ШЫворот-навыворот.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: