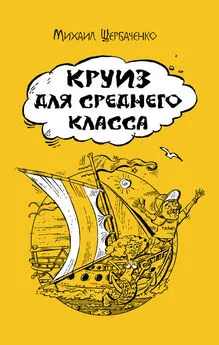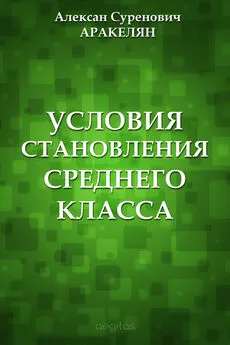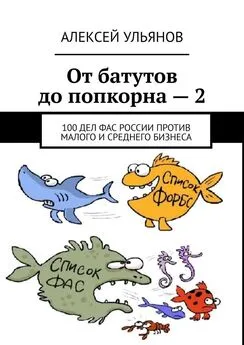Александр Севастьянов - Диктатура интеллигенции против утопии среднего класса
- Название:Диктатура интеллигенции против утопии среднего класса
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Книжный мир
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-8041-0338-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Севастьянов - Диктатура интеллигенции против утопии среднего класса краткое содержание
Анализируя ситуацию в стране и мире, опираясь на богатый исторический опыт, автор утверждает и доказывает, что в достижении целей процветания Отечества, бессмысленно рассчитывать на развитие среднего класса и общества потребления. В XXI веке только интеллект России может и должен обеспечить ей достойное будущее.
Диктатура интеллигенции — единственный ответ кризисным явлениям и вызовам современности. Мы не можем позволить вытолкнуть нашу страну из сферы передовых технологий и передовых идеологий!
В последние годы власть настойчиво заклинала общество понятием о «среднем классе». Ему приписывали самые лучшие качества, называли надеждой и опорой будущего процветания. И общество верило. И не было никого, кто разобрался бы в теме и дал ответы на многие вопросы. Что такое средний класс? Почему он так симпатичен власти? Может ли он действительно стать основой производительных сил современного государства? Есть ли в обществе слои с большим кпд?
В этой книге убедительно доказывается, что в XXI веке вырастает ценность интеллектуальной составляющей любого продукта. Но именно эту составляющую обеспечивает как раз не «средний», а иной, более высокий класс. И, если мы хотим успешно преодолеть кризис и проснутся однажды в современной технократичной стране, мы должны развенчать утопию и посмотреть правде в глаза.
Диктатура интеллигенции против утопии среднего класса - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вместе с тем несомненно: образование крепостной интеллигенции — результат объективных условий. В первую очередь, создания к 1760-м годам массовой дворянской интеллигенции, чьи растущие разнообразные потребности в цивилизованной жизни, в материальной и духовной культуре должны были удовлетворять квалифицированные специалисты соответствующего профиля. Дальнейшее — дело рационального использования средств и возможностей, бывших в распоряжении помещиков. До тех пор, пока не будет с цифрами и фактами в руках доказано, что в XVIII веке имел место процесс массового самопрохождения русских крестьян в круг таких специалистов, построения М. Д. Курмачевой останутся кабинетными теориями.
Более того, данные, приводимые автором, свидетельствуют о том, что на создании школ для крестьянских детей настаивали в Уложенной комиссии 1767 года именно феодалы и государственные учреждения, бывшие феодальными учреждениями. Здесь же приводятся их мотивы, вполне феодального характера (с. 71–80). На с. 79 говорится, что первоначально привлечение к учебе крестьянских детей потребовало бы принуждения. В другом месте убедительно показано, что обучение как грамотных, так и специально образованных крестьян шло именно "сверху" (с. 95-104). На с. 122–123 недвусмысленно сказано, что центрами крепостной интеллигенции были крупные вотчины. На с. 94 автор пишет, что даже в первой четверти XIX века "грамотность среди крестьян была довольно редким явлением". Вызывает недоумение утверждение М. Д. Курмачевой на с. 67 о якобы существовавшей "простой зависимости": "в большей массе крепостных сосредоточивалось большее число крепостной интеллигенции". Неизвестно, кто и когда вывел эту "простую зависимость", зато известно, что получение интеллигентской квалификации не есть односторонний процесс, совершающийся только по воле субъекта. Или: на с. 65 сказано, что "стремление крестьян к знаниям было социальной проблемой". Возможно, но только не в XVIII веке, судя по материалам книги.
Концепция М. Д. Курмачевой, как видим, не подтверждается фактами.
С интересом читаются, на фоне рассказа о грамотных крестьянах, строки, посвященные настоящим интеллигентам. Но… на поверку оказывается, что зачастую эти строки обязаны своим содержанием трудам предшественников, — в частности, неопубликованной диссертации Е. В. Гаккель, книге Е. С. Коц и др. Это касается рассказа об Арзамасской школе живописи (с. 122), о самодеятельном театре крепостных А. Б. Куракина (с. 126–127), о крепостных медиках (с. 133), других крепостных интеллигентах (с. 242–243), о взбунтовавшихся шереметевских музыкантах (с. 298), об убийстве А. Минкиной, любовницы Аракчеева (с. 299), и т. д. Автор честно указывает источники, но все же должна быть разница между исследованием и компиляцией, хотя бы в фактографической, главной части работы.
Очень интересны некоторые численные данные, приводимые со ссылками на Т. Дынник и Е. В. Гаккель (с. 138). Своего же ответа, кроме общих фраз, о численности крепостной интеллигенции автор дать не может (с. 13.9), что неудивительно ввиду неопределенности объекта исследования.
Бесспорной заслугой Курмачевой можно назвать лишь те добытые в архивах немногочисленные сведения, в которых находим неизвестные ранее данные о крепостных изобретателях, деятелях научно-технической мысли. Весь раздел, отчасти заполненный извлечениями из работ других авторов, занимает 25 страниц. Интересные сами по себе, новые данные исследователя не могут заслонить общего весьма невыгодного впечатления от книги.
Насколько работа М. Д. Курмачевой полезна для изучения истории русского крестьянства — мы судить не можем, но знания читателя о русской интеллигенции и русской литературе XVIII века явно терпят ущерб.
Изучение истории интеллигенции столь же многоаспектно, сколь и сфера ее деятельности. Представляется плодовторным такой подход к делу, который объединял бы данные истории, социологии, демографии, с одной стороны, а с другой — литературоведения и искусствоведения, истории общественной мысли и т. д. В условиях сегодняшней специализации дисциплин это означало бы объединение сил специалистов разного профиля. Не стоит ли подумать об этом?
Ленин об интеллигенции
ОТНОШЕНИЕ Ленина к интеллигенции — тема, более чем актуальная, поскольку более чем актуальным в наши дни стало отношение интеллигенции к Ленину.
Среди теоретиков социализма и коммунизма Ленин занимает уникальное место: ведь именно ему история предоставила возможность проверить практикой свои теории. Делая все то, что он делал, Ленин искренне полагал, что стоит у истоков новой судьбы человечества, судьбы, гениально, якобы, угаданной Марксом и Энгельсом, недопонятой Каутским, Бернштейном и Плехановым и как бы заново начертанной по верному марксистскому лекалу им, Лениным.
Эксперимент показал, что теоретический социализм, выпестованный марксистами-ленинцами, в своем воплощенном виде обнаружился ничем иным, как государственно-партийным феодализмом (социал-феодализмом). А Великая Октябрьская социалистическая революция на поверку оказалась Великой Октябрьской феодально-бюрократической контрреволюцией, направленной против буржуазных реформ в России, против капиталистического развития страны. В результате стране приходится, претерпев адские муки, с катастрофически разрушенной экономикой и не менее катастрофически нарушенной этнической структурой, "со второго захода" осваивать путь мировой цивилизации. Ущерб, нанесенный этим экспериментом российской культуре, науке, промышленности, образованию и непосредственно самой интеллигенции, — неисчислим.
Несмотря на достаточную очевидность сказанного, теоретический социализм зачастую остается философски привлекательным для отечественной, привыкшей мыслить очень отвлеченно, интеллигенции. (Невероятно, но факт!)
Но вот, что еще парадоксальнее. В.И. Ленин, непосредственный творец октябрьского переворота, главный архитектор российской социалистической модели, принципиальный ненавистник и презиратель интеллигенции, — Ленин для весьма и весьма многих интеллигентов доныне сохраняет привлекательность и обаяние.
В чем тут причина? Потребность культа? Подспудная зависть и восхищение перед интеллигентом, переплавившим себя во властного деятеля? (Метаморфоза, для большинства интеллигентов недоступная.) Просто преклонение перед незаурядным умом и волей, перевернувшими "этакую махину"? Благодарность (большая часть интеллигенции у нас — "социалистическая", т. е. первого поколения)?
Все это, видимо, так. Но несомненна и огромная роль пропаганды, рисующей приторно идиллическую картину отношений Ленина и интеллигенции (в ход идут сусально расписанные эпизоды: КУБУЧ, "кремлевские куранты" и т. п.). Немало потрудились тут и ученые-марксисты [84].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: