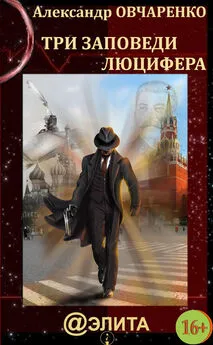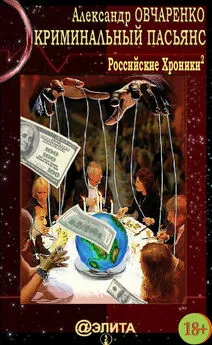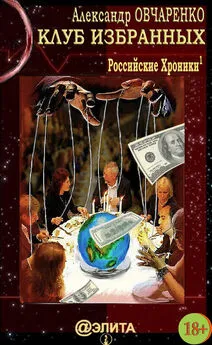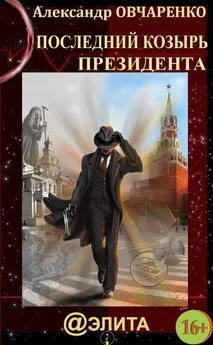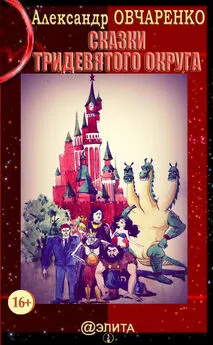Александр Овчаренко - В кругу Леонида Леонова. Из записок 1968-1988-х годов [calibre]
- Название:В кругу Леонида Леонова. Из записок 1968-1988-х годов [calibre]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Московский интеллектуально-деловой клуб
- Год:2002
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Овчаренко - В кругу Леонида Леонова. Из записок 1968-1988-х годов [calibre] краткое содержание
В кругу Леонида Леонова. Из записок 1968-1988-х годов [calibre] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
25 марта 1976 г.
Приехал В. Распутин и попросил договориться о встрече с Л.М. Во время съезда писателей уже была оговорена встреча с Л.М., но по ряду обстоятельств В. Распутин не смог прийти и чувствовал себя теперь неловко...
Когда мы вошли в квартиру Леонова, нас он не встретил, как обычно. Прошли в кабинет, и я представил В. Распутина.
Старик сурово спросил:
— Вы почему не пришли в прошлый раз?
В. Распутин извинился и объяснил. Л.М. стал говорить о молодых писателях, о том, что наша работа требует усилий духа, вырвался в воздух и крылышками все энергичнее, все быстрее и выше. Сегодня, завтра, месяц, и два... И мозг должен гореть, и душа — трепетать...
— Русскому писателю надеяться не на кого, мы в ответе перед собой и народом... У других, если даже вот такой талантик, лелеют его, раздувают, рекламируют, без конца надувают, как пузырь... А у нас каждый сам по себе, разве только критика вспомнит, чтобы обругать...
Л.М. ополчился против того, что пьют...
Он сказал В. Распутину, что тот талантлив, таких как он, мало в России... Ну, пусть 100 человек на 100 млн. русских...
Сейчас, когда народ в беде, когда некто Сулейменов доказывает, что даже Киев тюрки строили, а его за это Кунаев в ЦК берет и он уже почетный гость Франции, роль русского писателя возрастает неимоверно.
Больше мысли в литературе, но мысль должна быть художественна... И давать ее надо в таких огненных эссенциях. Все дело еще в ракусировках, в соотношениях... Надо искать...
Он рассказал, что, читая книгу физика Оппенгеймера, восхитился точностью формулировок... мы должны стремиться этого достигнуть...
Если мы описываем убитого, так мы должны знать, что живой человек никогда не сможет имитировать позу убитого. И поэтому надо искать соотношения. У меня есть деталь: лежит мертвый с открытыми глазами. А по его роговице ползет муравей, а глаз не моргает. Считаю это удачей... Факт мы не воссоздаем в непосредственности, но нам дана возможность взять его в соотношениях, в опосредованиях, в отражениях...
Надо шире брать все и не бояться заглядывать за горизонт... Когда-то Горький меня спросил, кивнув головой то ли вдаль, то ли вверх, почему я все заглядываю туда, а не смотрю больше на землю? Я ответил ему, что если будем смотреть только себе под ноги, то и человек вряд ли будет звучать гордо.
Л.М. спросил В. Распутина, составляет ли он план произведения. Делать это необходимо, по его мнению, чтобы верно определить внутренние соотношения, всегда нужно думать о конструкции вещи. «Не думайте, что, когда пишу, я думаю о конструкции. Но вот как- то Москвин спросил об одном из моих героев, что он делал в 1905 г., т.е. за двадцать лет до описываемых событий, какие носки носил. Конструкция подсказала мне, что об этом писать не надо, но все о моем герое я знал».
В. Распутин ответил, что план он не составляет и что план составляется чаще всего для того, чтобы опровергнуть самого себя.
— И для этого. Но не только. Без плана трудно внутренне прочно построить произведение. Вот я и в «Русском лесе» черчу линию...
Я перебил его: «Чертите, а они начинают раздваиваться». Он засмеялся, уловив иронию.
— Да, так получилось, когда я пытался вначале дать один образ, из которого потом выросли два... Но это подскажет и внутреннее соотношение. Знаете, когда я преподавал в Литературном институте, я заставлял студентов: «Опишите такое-то чувство, уделив две строчки». Надо знать соотношение между описанием и ролью описываемого в произведении. Если описываю нож, играя которым герой порезался, то я не имею права описание растягивать больше, чем на две строки. Если же я описываю нож, которым будет совершено убийство, я имею право описанию ножа уделить даже полстраницы. Я оспариваю чеховское утверждение о ружье. Но если оно у меня не выстрелит, то я должен психологически подготовить и оправдать, что, скажем, я рассказываю, как человек идет на убийство, захватив топор. Пришел, взмахнул, но... не опустил топора. Если не опустил, то намеки на это должны содержаться где-то (сомнение, сможет ли?), а тут я говорю читателю, что, взмахнув, он вдруг увидел себя в прошлом, мальчиком, перед глазами которого встала картина забоя мужиком быка.
Вычеркивание — великий усилитель таланта. Но никто не вычеркивает механически. Вычерк всегда должен носить форму переделки, сгущения, сжимания, чтобы не потерять какого-то оттенка, нюанса, запаха.
Чувство критического отношения к написанному должно всегда быть. Пока писатель испытывает чувство неудовлетворения написанным, до тех пор он не безнадежен: я всегда знаю, что у меня лучше, что хуже, но знаю и то, что написанное многое не то, что хотелось бы написать... Природа не обделила меня талантом, когда я делаю что-то, я знаю, как это надо сделать, а вот не получилось и с горечью думаешь: «Эх, если бы прикупить таланта хоть копеек на двадцать...»
Знаете, мне всегда везло на хороших людей. Критика меня всегда «разоблачала». Но ко мне очень хорошо относились Станиславский, Немирович-Данченко, Фрунзе, в особенности Остроухов. Это был блестящий художник, богач, женатый на миллионерше Боткиной, хранитель Третьяковки. Он читал все мои первые произведения. Как-то я написал повесть и передал ему. Он прочел и, как всегда, прямо сказал: «Печатать не надо!», но я обещал, и журнал уже отвел место в очередном номере. «Ничего, забьют какой-либо ватой», — сказал Остроухов. «Но приближается лето, надо везти! детей на дачу, нужны деньги».
— Обойдетесь без дачи.
— Но почему нельзя печатать?
— Потому, что повесть ниже вашего таланта.
Я шел от него, плакал, но повесть и до сих пор лежит у меня в шкафу ненапечатанная (из нее потом я сделал пьесу об Унтиловске).
О прямых изображениях. Не всегда они уместны, я например, доказывал мхатовцам, что не надо давать прямое изображение восстания барсуков, для чего потребуется выпустить на сцену 100 человек. А я говорил: «Давайте, я дам его отражение, ну, скажем, вот в этой бутылке». А они: «Нет, давай прямо!» Они настояли.
Удивительно картинно изобразил, как в 30-х годах шел пароход с писателями, по Беломорско-Балтийскому каналу. На столах угощение, играл оркестр, живописный дирижер... Махал руками, повернувшись задом к берегам, по которым стояли вот такие мужики, опустив руки ниже колен, перевоспитавшиеся строители-колонисты. Я спросил Погребинского, кто этот дирижер, он ответил: «А, румынский шпион!».
Столь же ярко рассказал, как с Горьким смотрел концерт болшев- цев. Они исполняли песню «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Сзади стояли два тенора и заливались: «Наша сила, наша власть!» Горький, разглаживая усы, говорил: «Здорово!» Меня же привлекли тенора. «Кто такие?» Тот же Погребинский ответил: «Фальшивомонетчики!» Знаете, я больше всего не люблю вот таких, которые «артековцы». Иногда детей привлекают.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Александр Овчаренко - В кругу Леонида Леонова. Из записок 1968-1988-х годов [calibre]](/books/1150493/aleksandr-ovcharenko-v-krugu-leonida-leonova-iz-zapisok-1968-1988-h-godov-calibre.webp)