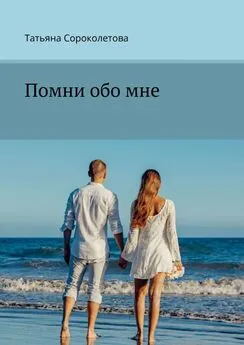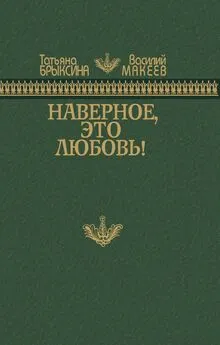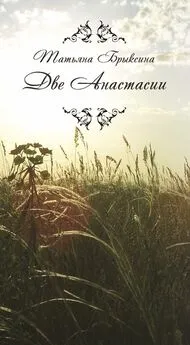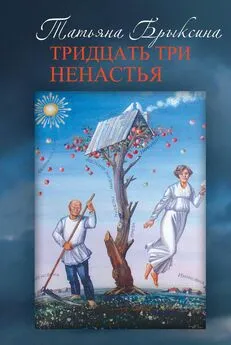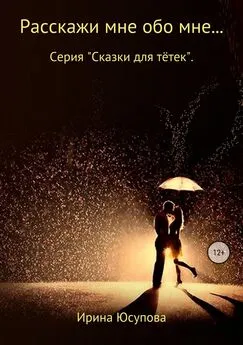Татьяна Брыксина - Ипостаси: о них, о нас, обо мне
- Название:Ипостаси: о них, о нас, обо мне
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-9233-1035-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Татьяна Брыксина - Ипостаси: о них, о нас, обо мне краткое содержание
Ипостаси: о них, о нас, обо мне - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Неожиданная мысль: в «Небесном ковчеге», как и в «ковчеге» надмирном, братья-писатели встретят Гуммера, пожмут руку, растолкуют что и как. Думаю, он не останется в большой обиде.
Как многие Иваны на Руси?
Данилов Иван Петрович 14.06.1936 – 19.12.1995
В кумылженской районной библиотеке меня спросили: «Вы хорошо помните Ивана Данилова? Каким он был?» – «Красивым и очень талантливым», – ответила я. «А вот говорят, что жил трудно… Это правда?»
Такой простой вопрос, но как сложно на него ответить!
Иван Петрович Данилов не был очень открытым человеком. В том смысле, что, не наводя тень на плетень в бытовом устрое и творческих делах, душу не рассыпал пригоршнями по затоптанным городским тротуарам, не ронял, как пепел с сигареты за хмельными столами, но бережно нес к чистому листу бумаги и смелым красивым почерком выражал ее в правдивейших повестях и рассказах, в чабрецовых стихах, в емких, сверкающих умом и наблюдательностью миниатюрах. А боль?.. Ее было много. И дело тут не в житейских проблемах, не в расшатанных табуретках, условно говоря, но в том честном взгляде на русскую жизнь, которая даже ясные глаза заволакивает седой пеленой тоски. В этом смысле Иван Данилов жил трудно, ибо повинно жил и не скаредно – не талант свой лелеял, не здоровье берег пуще совести, а горькую земную тяготу принимал на жилистые плечи и светлую душу. Иной, размахивая шариковой ручкой, тщится решать мировые проблемы, а Данилов тонко вырисовывал видимую правду единственного уголка земли, который для каждого Ивана на Руси зовется вечным словом – родина. Это любовь. С ней не поспоришь. Ан не всякому
Ивану дается небесное слово, чтобы спеть такую песню о земле, чтобы она понималась как правда. Главную свою песню Данилов называл Скурихой.
Скуриха – станица Скуришенская Кумылженского района Волгоградской области приняла его в полынно-донниковый повивальник в разгар июня 1936 года и укутала в снежный саван декабря 1995 года. Между ними пятьдесят девять лет жизни одного из лучших Иванов этой земной веси, воспетой и оплаканной им с безоглядной сыновней щедростью.
Каким он был?.. Красивым – это точно! Сухое лицо с выразительными губами, очки в темной тяжелой оправе, ералаш седеющих волос, вздыбленных, как у страстного дирижера, манипулирующего перед оркестром музыкально-одаренной палочкой. Темно-синие брюки отутюжены, чистейший белый свитер сияет и очень идет ему. Иван часто курит, роняет столбики пепла на брюки, смотрит пристально и насмешливо, ерничает. Я его слегка побаиваюсь…
Именно таким и запомнился мне один из самых ярких волгоградских прозаиков. С книжных страниц, неизбежно высвечивающих автора, он видится другим, а в реальной жизни – остряк и ерник, к тому же нередко хмелен, что добавляет ему остроты и шарма.
Где-то в 1973 году, еще до личного знакомства, я прочитала его книжку «Привозная невеста» – малоформатную, в скромном картонном переплете белого цвета. Книга обнаружилась среди многих других, преимущественно серых и скучных, на полке в больничной столовке, когда я целых три месяца, изнывая душой, поднимала уровень гемоглобина в крови, надышавшись случайно парами изопрена на заводе синтетического каучука. Перегорел листопадный октябрь, отгузынил дождливо-ветреный ноябрь, сухой поземкой по асфальту прошмыгнул декабрь и подошел Новый год. «Привозная невеста», притаившаяся под казенной подушкой, была единственным обретением души в ту осень.
Попросту я украла ее, и расставаться с книгой не захотела уже никогда. Чем поразила меня повесть Данилова, объяснить не берусь. Как и всякая хорошая проза, она вошла в сердце и осталась в нем. Осознанное почтение к волгоградской литературной школе закрепилось во мне и этим именем. Вскоре мы познакомились.
Иван Петрович Данилов – Данилóв (с ударением на «ов», как любят величать друг друга местные казаки) служил в оные времена литературным консультантом областной писательской организации, исполняя службу либо чересчур буквально, либо крайне легкомысленно. Вытянув ноги на середину кабинетика, попыхивая сигаретой, он сидел в железно-деревянном кресле и всех входящих поэтов ошарашивал категоричным требованием: «Читай новые стихи, только фигни не читай!» Этой неоднократной экзаменовки не избежала и я. Обращаясь ко мне «Танька» или «Брыксина», Данилов сурово требовал хороших новых стихов и всегда оставался недоволен. «Фигня на букву «х»! – резюмировал он и повторял требование: – Читай другие стихи!» И вновь клеймил прочитанное емкой и откровенной полуцензурщиной, пока слезы не брызнут из глаз. «Иван Петрович! – вспыхивала я. – Вам никогда не угодишь!» – «Пиши хорошие стихи – и угодишь!» – резонно отвечал он.
Разбирать стихи с листа Иван не любил – хлопотно и долго! – а нам хотелось с листа, ибо оставалась еще надежда, что глазами он выловит из стихотворного столбца удачный образ, живой эпитет, звучную рифму. Ан нет – читай, и вся недолга! Честно говоря, профессионалу и двух строчек на слух достаточно, чтобы понять, стихи это или не стихи. Но молодые авторы редко доверяют скорому впечатлению о своих творениях и обязательно хотят, чтобы с листа и подробно.
Когда литературная пятиминутка к обоюдному неудовольствию завершалась, Данилов начинал слегка охмурять меня. Уставившись погрустневшими вдруг глазами в мои мучительно-сжатые коленки, говорил: «Носи юбки подлиннее, нам здесь за вредность не платят». Я возмущенно вскипала: «Иван Петрович!..», и он снова веселел.
Однажды Данилов, Колесников, Кононов, еще кто-то решили гульнуть средь бела дня – непонятно где – стали приглашать меня, и я вроде как не возражала. Уже на троллейбусной остановке против «Современника» спрашиваю Данилова: «А куда мы едем? И я вам зачем?» – «Будешь моей девушкой…» – шепнул Данилов, не предполагая, что такой поворот событий испугает меня и я сбегу прямо с подножки троллейбуса. При следующей встрече Иван поклялся, что пошутил, и нашим дружеским отношениям с тех пор уже ничего не угрожало.
Так вышло, что стихов Данилова я тогда не читала – в любимых ходили другие волгоградские поэты, но вкусу его доверяла, хотя позже убедилась, что охотнее он воспринимает стихи «под себя», то есть написанные в его манере. Для меня Иван оставался прежде всего замечательным прозаиком. Если же говорить о проникновении даниловского слова в душу, то и поныне никого из наших сравнить с ним не могу.
Каждую новую книжку Ивана Данилова мы прочитывали со страстью, шли к нему делиться впечатлениями, чему он был рад, но восторги воспринимал так же ернически, с некоторым показным недоверием, мол, что вы, молодь зеленая, понимаете. Со временем тон его поменялся, в беседах «без дураков» стали проскальзывать горькие нотки, легкая обида на то, что в лидеры поперли ловкачи и хваты от литературы. Но речь не о них. Да и особых причин обжаться у Ивана, если честно, не было. Издавался он часто, отклики в прессе получал только хвалебные, литературные награды, может, и не сыпались на него щедрым дождем, но и стороной не обходили. Главное – его читали люди и любили товарищи по писательскому цеху. Среди самых известных книг Ивана Данилова я бы назвала «Февраль – месяц короткий», «Лесные яблоки», «Холодная весна», «Скуришенские летописцы», «Городские петухи», «Красные ставни», «Незавещанный сад». Некоторые упрекали Ивана Петровича в однотипности названий, но он стоял на своем и был по-своему прав – ведь помнятся его книги, даже обложки помнятся.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
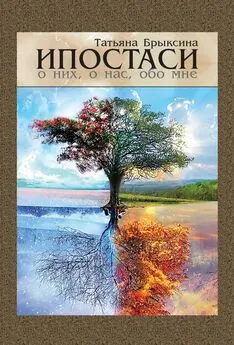

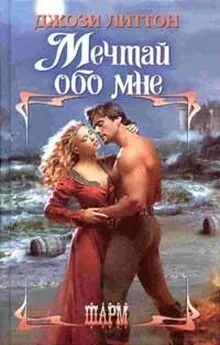
![Анатолий Афанасьев - ...И помни обо мне [Повесть об Иване Сухинове]](/books/1064934/anatolij-afanasev-i-pomni-obo-mne-povest-ob.webp)