Евгений Шешин - Затонувший гобой: Антология английской, французской и бельгийской поэзии XVIII, XIX и XX веков
- Название:Затонувший гобой: Антология английской, французской и бельгийской поэзии XVIII, XIX и XX веков
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005331601
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Шешин - Затонувший гобой: Антология английской, французской и бельгийской поэзии XVIII, XIX и XX веков краткое содержание
Затонувший гобой: Антология английской, французской и бельгийской поэзии XVIII, XIX и XX веков - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«в первоначальном импульсе к созданию неизменной и магически-действенной, не благозвучием (в нашем смысле), а нерасторжимым созвучием связанной и связующей волю богов и людей словесной формулы, какою в эпоху, еще чуждую художества, является стих в его исконной цели и древнейшем виде заклинания и зарока.» 2 2 См.: Вяч. Ив. Иванов, К проблеме звукообраза у Пушкина
Вячеслав Иванов дает нам как весьма цельную картину поэтического творчества (на примере А.С.Пушкина), так и точнейшую характеристику поэта вообще как «существа, которого… звуковое пленение и одержание» влечет «к тёмной глоссолалии» (с цитатой из пушкинского стихотворения «Поэт» (1827): бежит он, дикий и суровый, и звуков и смятенья полн, На берега пустынных волн, В широкошумные дубровы …). Здесь нам следует остановиться, поскольку важнейшие вопросы назрели и должны быть поставлены незамедлительно. Вопросы эти суть таковы:
a) действительно ли существует нерасторжимая (имманентная) связь между плененным звуками, ищущим разрешения от этого своеобразного «бремени» поэтом и стихией языка («тёмной глоссолалией», которая антиномически несет в себе и светлое – аполлоническое – начало)?
b) не является ли в таком случае и поэтическое творчество в его исконном виде (свободном от «тридцати трех уродств» мира сего) бесконечной промульгацией этой языковой стихии, – как бы «благой вестью» мира горнего, – а сам поэт, полный «и звуков и смятенья», не выступает ли здесь и как пленипотенциарий творящих вселенских сил, «цесарской властию снабдённый», и как «священная жертва», которую, в свое время, непременно «потребует Аполлон»? (У Пушкина поэт конечно не «жертва», а собственно Жрец, ибо Аполлон требует его «к священной жертве» – нам хотелось лишь напомнить здесь о трагическом конце Орфея, растерзанном менадами).
Пушкин даёт образ поэта очень близкий к тому, которого мы себе представляли как жреца Дианы Арицийской из книги Дж. Фрэзера «Золотая ветвь» :
Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира;
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел.
Тоскует он в забавах мира,
Людской чуждается молвы,
К ногам народного кумира
Не клонит гордой головы;
Бежит он, дикий и суровый,
И звуков и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы…
Очень важные характеристики: 1) в мире поэт – «малодушен» и «…быть может, всех ничтожней» (Р.И.Рождественский, – сравнивая великих поэтов то с высочайшими горами, то со столицами европейских государств, – либо основательно подзабыл школьную программу, либо намеренно отказался от пушкинской трактовки фигуры поэта). 2) у поэта «чуткий слух», способный улавливать «божественный глагол» (выше мы говорили о поэте как о Жреце, наделенном сакральной речью). 3) поэт (одержимый звуками божественной речи) у Пушкина «горд» (так как, в своем аполлоническом служении, не склоняет головы перед недолговечными кумирами толпы – «тоскует он в забавах мира»). Но как проявляется «божественный глагол»? Как происходит рождение звукообраза через «акт поэтического творчества»? Вновь обратимся к статье Вяч. Иванова:
«Закрепление начальной стадии этого акта дало бы мгновенные снимки чистой глоссолалии, или подлинной (а не искусственно построенной и, следовательно, мнимой, как у футуристов соответствующего толка) „заумной речи“, редкие примеры которой мы имеем в записях экстатического обрядового гимнотворчества. Связанная с определенным языком общностью фонетического строя, эта членораздельная, но бессловесная звукоречь являет собою потуги родить в сфере языка слово как символ „заумного“ образа – первого, вполне смутного представления, ищущего выкристаллизоваться из эмоциональной стихии. Тот факт, что поэтическое творчество начинается с образования этих туманных пятен, свидетельствует, что поэзия – поистине „функция языка“ и явление его органической жизни, а не механическая по отношению к нему деятельность, состоящая в новых сочетаниях готового словесного материала: поэт всякий раз филогенетически повторяет процесс словорождения, и прав Шопенгауэр, утверждая, что истинный стих изначала заложен в самой стихии языка.»
В своей оценке исканий современных ему футуристов, в своем противопоставлении «подлинной глоссолалии» и «искусственно построенной и, следовательно, мнимой» Вяч. Иванов являет себя «на высотах познания» – в привычно-белоснежных apex et laena аполлонова фламина – неутомимым поборником классической ясности, трагической фигурой, подобно волошинскому Рэдону печально созерцающей оборвавшиеся «последние концы нитей своего искусства <���…> и ничего впереди – это предел одиночества» 3 3 М. Волошин, Одилон Рэдон. – Впервые: «Весы», 1904, №4, С.1—4
. Но тогда как у Волошина Редон «в его земном воплощении – только иссохшие уста, через которые Вечность шепчет свои воспоминания», Вячеслав Иванов, в жреческом своем облачении, вовсе не шепчет, но вполне отчетливо провозглашает, задолго до современных нам толкователей постмодернизма, необходимость осознания и преодоления кризиса залосневшей узуальности, её обветшалости, тяготеющей к эпатажу, к «зауми», к новому языку, подобно наводнению сметающему всё на своём пути, неведомо куда уносящему и почерневшие обломки архаики, и эфемеридами канувшие в его мутных водах неологизмы!
Как, в самом деле, жаль, что Вяч. Иванов не сумел под должным углом рассмотреть в апреле 1904 года статью в «Весах» своего младшего сотоварища Максимилиана Волошина! – «Максимильяна» – как тот подписался однажды, – в своем сонете, от «голых берегов сожжённых гор» посланном на Башню в апреле 1907, – аккурат три года спустя помянутой публикации в «Весах», – с инкрустированным в текст греческим приветом – χαιρή! Ведь прочти Иванов волошинскую статью не как аполлонов фламин, а «священныя одежды совлачившись», это самое χαιρή наполнилось, быть может, и новым смысловым оттенком: это мог быть уже тогда, в апреле 1907 года, «привет», связующий двух опередивших свое время «постмодернистов», двух пришельцев из будущего, говорящих на том самом «новом языке», которого «фламин Аполлона» окрестил «заумной речью»! Волошин явно восхищался Ивановым. Вот его описание «мудрого Вячеслава»:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
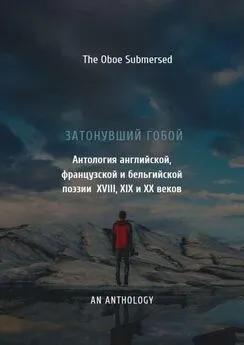

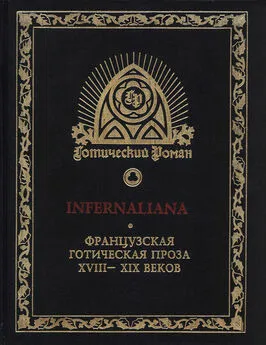





![Александр Бушков - Кто в России не ворует. Криминальная история XVIII–XIX веков [litres]](/books/1144744/aleksandr-bushkov-kto-v-rossii-ne-voruet-kriminal.webp)

