Евгений Шешин - Затонувший гобой: Антология английской, французской и бельгийской поэзии XVIII, XIX и XX веков
- Название:Затонувший гобой: Антология английской, французской и бельгийской поэзии XVIII, XIX и XX веков
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005331601
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Шешин - Затонувший гобой: Антология английской, французской и бельгийской поэзии XVIII, XIX и XX веков краткое содержание
Затонувший гобой: Антология английской, французской и бельгийской поэзии XVIII, XIX и XX веков - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
2.
Если вернуться к оставленной нами на время «поэтической карте Европы», то она, по нашему скромному мнению, в первую голову долженствует поразить всякого взглянувшего на неё не в горделивом самолюбовании вознесшимися горами-городами, а полным отсутствием границ, так как главенствующей характеристикой поэта с древнейших времен является как раз устремленность за пределы сложившихся сегрегаций – «как в песне Рюккерта» (по выражению Теофиля Готье) – порвав опутавшие его (как бодлеровского альбатроса) «невидимые сети» :
Des ailes! des ailes! des ailes!
Comme dans le chant de Ruckert,
Pour voler là-bas, avec elles.
Au soleil d’or, au printemps vert!
(Th.Gautier, Ce que disent les hirondelles )
Этой характеристикой мы и руководствовались при составлении данной антологии. Гражданином какой конкретно европейской державы или жителем какого города/поселения являлся тот или иной выбранный нами поэт является для нас второстепенным и малосущественным, ведь на нашей поэтической карте поют свои сны без начала и без конца лишь волны предвечного Океана, а поэтов в таком случае лучше было бы сравнить, забыв на время о Жреце озера Неми, не с городами и горами Р. Рождественского, а с мореплавателями О. Мандельштама, бросившими, каждый в свой роковой час, запечатленные для будущих поколений бутылки. Кстати сказать, то стихотворение Боратынского, о котором говорит Мандельштам, сравнивая поэтов с мореплавателями, вполне могло бы послужить эпиграфом к нашей антологии. Но мы приведем это стихотворение здесь, дабы избежать излишних кривотолков относительно масштабов дарований избранных нами западноевропейских поэтов:
Мой дар убог, и голос мой не громок,
Но я живу, и на земли мое
Кому-нибудь любезно бытие:
Его найдет далекий мой потомок
В моих стихах; как знать? душа моя
Окажется с душой его в сношеньи,
И как нашел я друга в поколеньи,
Читателя найду в потомстве я.
<1828>
Мандельштам подметил ещё одну очень важную вещь: «чувство провиденциального», которое охватывает «нашедшего бутылку»:
«Читая стихотворение Боратынского, я испытываю то же самое чувство, как если бы в мои руки попала такая бутылка. Океан всей своей огромной стихией пришел ей на помощь, – и помог исполнить её предназначение, и чувство провиденциального охватывает нашедшего.» 5 5 О. Мандельштам, О собеседнике. – Впервые: «Аполлон», 1913, №2, С.49—54
Действительно: не раз и не два отмечали мы присутствие того же самого – «провиденциального» – если не чувства, то, скорее, невидимого собеседника, из глубины лет/веков мгновенно приблизившегося к нам и почти воплотившегося. И было действительно чувство – того, что это приближение есть и как бы изволение свыше – услышать свой голос воплощенным в другом языке! Так постепенно сложилась – со-изволилась – эта книга.
Е.Ш. Декабрь 2020Из французской и бельгийской поэзии
Шарль Юбер Мильвуа / Charles Hubert Millevoye (1782 —1816)
Падение листьев
(Из Мильвуа)
Всю землю выжелтила осень
Листвой опавшею в лесах.
Умолк сладкоголосый птах:
Меж голых веток – неба просинь.
Долины житель умирал,
Цвет юности едва завидев,
В дубраве сумрачной вздыхал,
Жестокий рок возненавидев:
«Прощайте, милые дубы.
Уж нету сил… я умираю.
Как лист валящийся – судьбы
Печальный знак – конец свой знаю.»
Оракул грозный возгласил:
«В последний раз пред ним желтеет
Листва: страдальца час пробил,
Вокруг могильный мрак густеет.
Угасший огнь вновь не взыграет,
Увянет юность – так в лугах
Трава нескошенная вянет;
Так от мороза погибает
Лоза на брошенных холмах.»
«Я умираю! Хлад могилы
Лица коснулся моего.
Весна, расцветшая вполсилы,
Зимой вернулась для чего,
Куст чахлый разом уничтожив?
Осталось несколько цветов —
Они не принесут плодов,
Убранство гроба приумножив!
Слетай, слетай, последний лист!
Под ветра ледяного свист
Укрой на время путь печальный
От взора матери моей,
Чтобы не знать до срока ей,
Где сына ждёт приют прощальный.
Но если на закате дня
Придёт оплакивать меня
Моя любовь, вуалью чёрной
Мадонны бледный лик укрыв,
Разбудит тень мою порыв
Пускай – листвы неугомонной.»
Назавтре, к ночи, отлетела
Его бессмертная душа.
Туда, где сына лишь могила,
Мать каждый вечер не спеша,
Шла, палою листвой шурша…
Любимая не приходила.
Альфонс де Ламартин / Alphonse de Lamartine (1790 – 1869)
Одиночество
Как часто я, с последними лучами
Взобравшись на гору, сажусь под дубом сим:
Картин изменчивых чредою под ногами
Равнина взорам открывается моим.
Здесь пенные валы поток ворчливый,
Меж тёмных берегов змеяся, вдаль влечёт.
Там озеро восход неторопливый
Звезды встречает плеском сонных вод.
Хотя верхам вон тех холмов лесистых
Последний солнца луч вечор ещё дар и т,
Царицы нощной колесница, – мглистых
Во óблацех, – край неба уж сребрит.
Стрелы готичной звон ли колокольный
В последних звуках дня вдаль над землёй плывёт.
Его заслышав, странник богомольный
Вблизи селенья замедляет ход.
Но, хладную, восторгами былыми
Картинам милым душу не пленить,
И солнцу, что восходит над живыми,
Тень неприкаянну, увы, не воскресить.
С холма на холм взор тщетно мой блуждает:
Вот – юг, вот – аквилон, аврора и закат.
Я говорю: «Меня не ожидает
Здесь ни тол и ка юности услад.»
Чтó дóлы мне? чтó хижины с дворцами? —
Их для меня очарованья след простыл.
Безлюдно всё теперь под небесами —
Ужель природе человек не мил?!
Восходит солнце или же заходит,
Не изменяя курса своего —
Чтó солнце мне? Впустую дни проходят.
От них не жду уж боле ничего.
Очам моим предстали б лишь пустыни,
Когда бы я свершил за солнцем круг.
Не надо мне от жизни благостыни —
Щедрот вселенной, обретённых вдруг!
Но, может быть, есть место, где иные
Иное солнце освещает небеса, —
Душе, оковы сбросившей земные,
Там давних грёз явилась бы краса!
Там идеал, в юдоли безыменный,
Она б по имени смущённо назвала.
Там, родника упившись влагой пенной,
Любовь и веру снова обрела!
Ах, если бы, – Авроры колесницей
Несóм, – лик смутный твой вдали увидел я!
Здесь на земле в изгнании томится, —
Чужая ей во всём, – душа моя.
Когда с дерев вал и тся лист последний,
Его долиною уносит ветр ночной.
Ты, Аквилон, меня, как лист осенний,
Прочь унеси во мгле предгрозовой!
Озеро
Интервал:
Закладка:
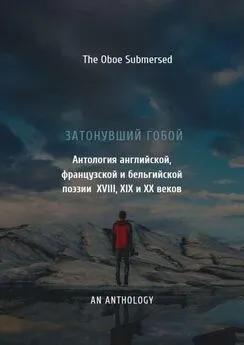

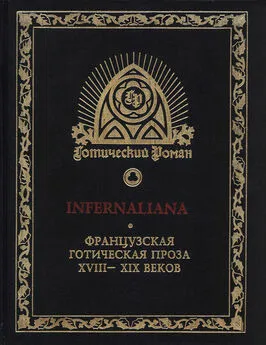





![Александр Бушков - Кто в России не ворует. Криминальная история XVIII–XIX веков [litres]](/books/1144744/aleksandr-bushkov-kto-v-rossii-ne-voruet-kriminal.webp)

