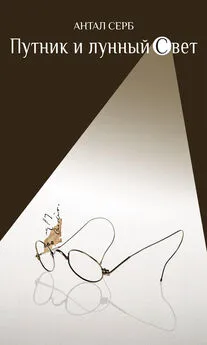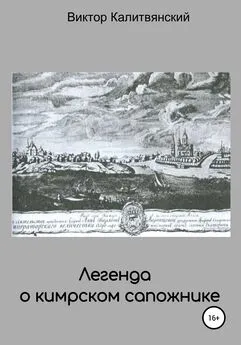Антал Сташек - О сапожнике Матоуше и его друзьях
- Название:О сапожнике Матоуше и его друзьях
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Государственное издательство художественной литературы
- Год:1954
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Антал Сташек - О сапожнике Матоуше и его друзьях краткое содержание
О сапожнике Матоуше и его друзьях - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Если хотите избавиться от дома, запишите его на мать.
— Вот еще… На женщину! Хорошо бы я распорядился!
Говорили, совещались, старики разохались, и в конце концов было решено, что Матоуш никуда не пойдет и отец передаст ему избу.
Старик ослабел и телом и душой. Он был так подавлен, что его даже, охватило желание расплатиться с долгами.
— Не знаю… не знаю, дождусь ли я зимы, Матоуш. Я должен три дюжины дроздов войковскому священнику. Уже два года, как он заплатил мне за них, но ты же знаешь, что ни в позапрошлом, ни в прошлом году дрозды не прилетали, потому что не было рябины. Если я помру до зимы, не забудь, налови три дюжины, добавь еще несколько дроздов, отнеси ему и попроси, чтобы он помолился за меня в костеле после обедни.
— Ничего с вами не случится, папаша, будет вам говорить о смерти.
— Знаешь что, Матоуш? С одним ремеслом сейчас трудно. Заведи-ка себе небольшую лавочку. Нетюка из Олешницы уже разбогател на этом. Ты сможешь и сапожничать и торговать.
— Откуда же взять на это деньги?
— Пайла из Высокого даст тебе взаймы под избу.
— Этот проклятый ростовщик, который загоняет людей в могилу, если им нечем платить?!
— Заработаешь и легко уплатишь ему проценты.
И наш Матоуш стал владельцем дома и торговцем. Уже в праздник святого Вацлава он продавал детворе складные ножики, свистульки и марципаны, курильщикам — трубки, оселки и трут для трубок, хозяйкам — ткани и закваску для сыра, а всем прочим — местные вишни, закупленные им в Ичине. Но сапожного ремесла он тоже не оставил. Когда кто-нибудь приходил за товаром и звонил в сенях, Матоуш оставлял работу, бежал в лавчонку, продавал что требовалось, и снова возвращался к шилу, дратве, коже, газетам и революционным листовкам, которые он читал с жадностью. Браконьерство он бросил, у него не хватало времени, да теперь это и не оправдывало себя. В годы, когда рождалась свобода, каждый имеющий ружье охотился, где хотел. Зайцы в горах совсем перевелись, а если где-нибудь и попадался зайчишка, люди из окрестных деревень рассказывали об этом как о большой редкости: «Там, у Назарова, в сосняке, есть заяц».
Матоуш так сильно увлекся сапожными и торговыми делами, а больше всего революционными идеями, что даже в престольный праздник, который отмечали во Вранове в конце октября, не пошел в трактир на танцы.
— Что такое с Матоушем? В этом году он сюда и не заглядывает? — спрашивал за кружкой пива старый Боучек старьевщика Малого.
— В самом деле… Без него тут не так весело, как бывало. С той поры, как Матоуш вернулся из ичинской больницы, его словно подменили.
И действительно, с Матоушем творилось что-то необычное. Казалось, какая-то скрытая в нем волшебная сила ловила электрические волны, несшиеся к нему из мировых далей. Живой свет, струившийся из душ миллионов угнетенных и порабощенных надменными богачами, наполнял его грудь болью и гневом. Эта тайная сила, истоков которой он не знал, потрясала все его существо. Стрельба на парижских, берлинских и венских баррикадах отзывалась в нем могучим эхом. Сидел ли он на своем табурете и сапожничал, копался ли в лавчонке среди трубок, ножей и прочей мелочи, подсчитывал ли вечером полученные за день бумажные крейцеры — он всегда ощущал отзвук событий, которые потрясали мир. Тело Матоуша было приковано к сапожной табуретке и к комнатке, где лежал весь его дешевый товар, а душа летела туда, где шла битва за свободу и за великий свет будущего.
Старый сапожник был прав, говоря, что он не дождется зимы. Когда святой Мартин приехал на белом коне и выпал первый снег, отец слег.
— Когда умру, не забудь о дроздах для священника, — напомнил он сыну, увидев через окно птиц, прилетевших клевать рябину.
Только этот долг тяготил его совесть, об остальных он не думал.
В день святой Катерины старый Штепанек лежал на погребальных носилках в войковском костеле. Матоуш за все это время не сказал ни слова и не плакал. Только глаза его как-то странно светились, когда священник совершал обряд. На хорах запели «Animas fidelium».
«Animas fidelium», — отозвалось в сердце Матоуша. Боль пронизала грудь, прорвался поток слез. А когда покойного засыпали землей, сын долго смотрел на могилу.
«Что такое эта яма с гробом? Конец всему или дверца, через которую входят в другой мир? — спрашивал он себя, возвращаясь с похорон. — Не знаю… Мать знает… Гм. Она только верит, а знать тоже ничего не знает».
Мать шла рядом.
— Вы, мама, не плачьте. Этим вы его не вернете, только себя измучаете. Ведь надо жить дальше, а слезы мешают жить.
— Ах, сынок, мне бы лучше всего пойти за ним, чтобы встретиться там.
«Встретиться… встретиться…» — повторял Матоуш про себя.
Когда он пришел домой, на него вдруг впервые в жизни напала тоска. Прошло несколько дней, прежде чем он опомнился. Смерть отца и печаль матери коснулись его невидимой рукой. Две волны — мрачные мысли и суровая действительность — столкнулись в нем, как два живых существа. Им овладело беспокойство, недовольство. Он не понимал, что с ним происходит; он не имел представления о том, что между внутренним миром человека, его подсознательной жизнью и окружающей действительностью зияет пропасть, которую нельзя ничем заполнить, нельзя преодолеть. Но внешний мир с его повседневными заботами оказался сильнее. Вскоре Матоуш снова сидел с шилом, с кожей и с дратвой над газетами и листовками и выбегал в лавчонку на звонок покупателей. Об отце осталось только воспоминание.
— Матоуш… дрозды, — напомнила ему мать через неделю после похорон, увидев птиц из окна на рябине.
«Ничего им не давайте, ничему не верьте?» — промелькнуло в памяти сына. Но он заглушил это воспоминание и сказал себе: «Это было последнее желание отца».
Наловив три дюжины бедных зимних птичек, он отправился с ними к священнику.
— Пан патер, я принес дроздов, долг моего покойного отца, но вы должны помолиться за него в костеле после обедни.
Священник слегка нахмурился, потому что Матоуш говорил ему «вы», а не «они» [12] В чешском языке раньше существовала особая форма почтительного обращения — в третьем лице множественного числа.
, и не величал его соответственно положению.
— Помолюсь, — сказал он и добавил с упреком: — Почему ты, Матоуш, не поешь теперь в божьем храме и даже не ходишь в костел? Неужели тебя так испортила эта свобода?
— Да, свобода. Она открыла мне глаза.
— Не говори глупостей, — она ослепила тебя. Все вы теперь грешники, в ты — самый большой. Ты безбожник. Люди передавали мне, что ты поносишь деву Марию и кричишь по деревне, что ее статуя, старая, безобразная и что ее надо сбросить в овраг или куда-нибудь на свалку, так как она мешает проезду. Поберегись, как бы тебя не постигла заслуженная кара… Я недавно прочел в газете, что жители одной моравской деревни, опьяненные этой вашей новой свободой, возгордились и из какого-то упрямства прошлым летом не устроили обычной процессии в честь своей святой. В наказание за это вся деревня выгорела.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
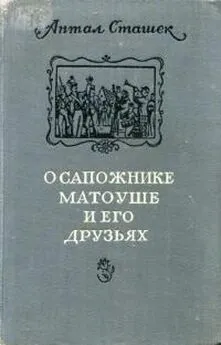
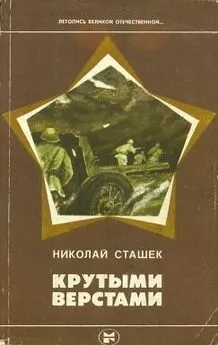
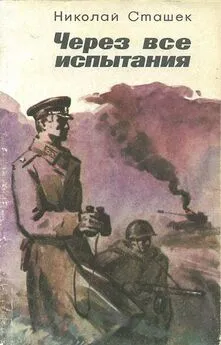
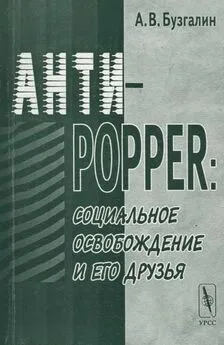
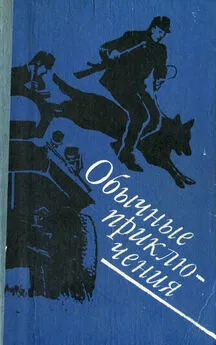
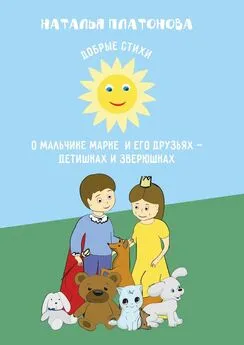
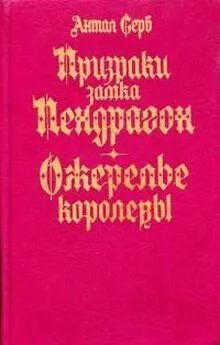
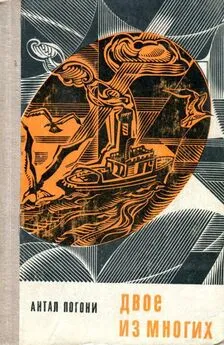
![Виктор Калитвянский - Легенда о кимрском сапожнике [litres самиздат]](/books/1149399/viktor-kalitvyanskij-legenda-o-kimrskom-sapozhnike.webp)