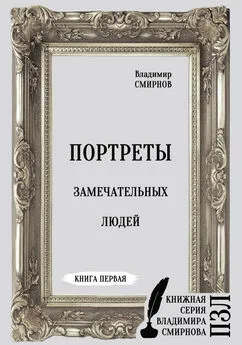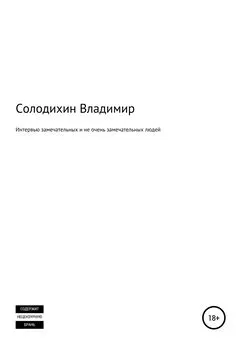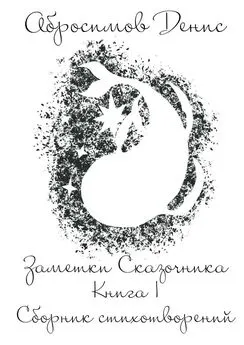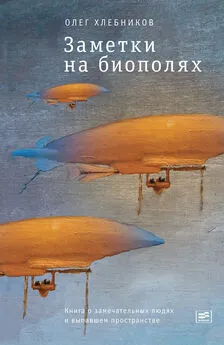Олег Хлебников - Заметки на биополях [Книга о замечательных людях и выпавшем пространстве] [сборник litres]
- Название:Заметки на биополях [Книга о замечательных людях и выпавшем пространстве] [сборник litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Время
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9691-1723-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Хлебников - Заметки на биополях [Книга о замечательных людях и выпавшем пространстве] [сборник litres] краткое содержание
Заметки на биополях [Книга о замечательных людях и выпавшем пространстве] [сборник litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Последнее письмо от Самойлыча я получил в самом конце 1989 года. В нем содержался отзыв о моей только что вышедшей тогда книжке «Наземный переход» с очень важными для меня словами (например, про то, что в ней «нет усталости стиха») и было настойчивое приглашение приехать в Пярну на новогодние «каникулы».
В предновогодней суете я не ответил сразу. Да и после празднования рокового для Самойлова 1990-го тоже не поспешил, так же как и приехать, а ведь собирался!
Потом клял себя.
А ответил я на последнее письмо Самойлова только спустя восемнадцать лет – стихами:
Дорогой Давид Самойлыч!
Я, дурак, Вам не ответил
на последнее письмо.
Грех – не отрицаю – мой лишь,
хоть трепал листочки ветер
перемен и гнал дерьмо.
Кстати, эти перемены
всех оставшихся задели.
А командуют опять
к у мы нашей ойкумены –
каждый вышел из шинели
Феликса и тоже – тать.
Хорошо, что Вы далёко –
нынче тут не чтут поэтов,
некому стишок прочесть.
Ни в отечестве пророков,
ни у разных-прочих шведов…
Хорошо, хоть водка есть.
У меня же всё в порядке:
всё работаю в газетке –
значит, к водке есть жратва
и в излюбленной тетрадке
незаполненные клетки –
будет где держать слова.
Третьим будет
На троих со Станиславом Борисовичем Рассадиным мы тоже часто соображали (то в компании с редактором «Новой» Муратовым, то с Михаилом Козаковым, то еще с кем-то). Особенно в последние годы его жизни, когда, лишившись ноги из-за диабета, он уже не вставал, зато охотно сидел за столом с посещавшими его друзьями. Но чаще – все же на двоих. И о многом, что здесь написано, говорено-переговорено с ним во время этих посиделок.
Едва подойдя к его подъезду в доме на Ленинском проспекте, где он жил в маленькой, переполненной книгами квартирке (казалось, он играл на этих книжных полках, как на органе), можно было услышать его крик: «Светла-а-ана!» Это он звал свою домоправительницу-сиделку.
Звал нетерпеливо, почти свирепо. Но на самом деле относился к ней и ее сыну очень тепло и доверчиво, возможно, слишком доверчиво. И получилось, что он просто уже не мог обходиться без их помощи. А может, и не хотел. Если б освоил костыли или инвалидное кресло, ему было бы не удержаться от посещения комнаты покойной любимой жены Али. А это было выше его сил. Та комната, где он лежал, была все же его кабинетом, сугубо личным пространством, защищенным от бренности мира любимыми вечными книгами…
Но не только о вечном отстукивал он свои тексты на пишущей машинке в этом кабинете.
С его легкой руки появился термин «шестидесятники», обозначивший сначала поколение поэтов, потом шире – писателей, потом еще шире – людей демократических, «последвадцатосъездовских» упований.
Он не был рад своему авторству. И все-таки… Ну, во-первых, человек, придумавший слово (разумеется, всерьез вошедшее в обиход), бессмертен. А во-вторых, он постоянно уточнял этот термин, демонстрировал расширительность понятий «шестидесятники» и даже «шестидесятые» – не просто такие-то годы века, а общественное явление: «…смерть Булата Окуджавы в 1997-м стала завершением шестидесятых годов… Шестидесятые, повторю, завершились в конце девяностых».
Интересно, а сам Станислав Борисович Рассадин – шестидесятник? Безусловно. Но обязательно с учетом того, что он написал в статье о самом шестидесятном из шестидесятников – Евгении Евтушенко: «Наши шестидесятые, ныне издалека, тем паче из насмешливого далека кажущиеся такими сплоченно-дружными в общем братстве и общих иллюзиях, были просто временем осознанного – по крайней мере, осознаваемого – одиночества. Временем, когда оно, одиночество, начало не только страшить личность, ощутившую себя вне стада, но когда эта личность, мучаясь и пугаясь, ощутила и то, как человечески, творчески важно, необходимо – быть вне…»
В телефильме, снятом по аксеновской «Тайной страсти», все как раз наоборот: кажется, что «шестидесятники» вообще никогда не расставались друг с другом. Полная глупость!
Вне чего был Рассадин, очевидно: вне ангажированности-прикормленности властью (что советской, что постсоветской – в разных модификациях), вне какой бы то ни было литературной партии или группы, вне уютной (а значит, не имеющей прямого отношения к литературе) ниши нерефлексирующего критика-оценщика (так и хочется добавить, по Шварцу, – в городском ломбарде) и еще много чего вне. Значит, одинок?
Ну, «друга в поколенье» он нашел – и не одного: это и ушедшие Булат Окуджава, Александр Галич, Натан Эйдельман, Юрий Давыдов, Михаил Козаков, Юрий Черниченко и ушедший значительно позднее Фазиль Искандер, и слава богу здравствующие Наум Коржавин и Владимир Рецептер… И «читателя в потомстве» уже обрел – Станислава Борисовича читают не только те, кто годится ему в сыновья, но и – во внуки (сам знаю таких вундеркиндов).
Творческое одиночество Рассадина несомненно. Никто из его друзей-литераторов, тем более актеров, не занимается ничем жанрово родственным рассадинским текстам. Да и не из друзей сейчас тоже никто ничего подобного не пишет. Раньше писали – Иннокентий Анненский «Книги отражений» и Юрий Тынянов. Сам Рассадин в этом великолепном ряду третий. Надеюсь, не последний.
Однажды Станислав Борисович сказал, что ушел из критики в историю литературы. Это, мне кажется, не совсем верно. Да, он писал о Пушкине и Крылове, Языкове и Баратынском, Бенедиктове и Вяземском, Дельвиге и Денисе Давыдове, Фонвизине и Сухово-Кобылине, Чуковском и Галиче, Булгакове и Эрдмане… Впрочем, писателей, которых хотя бы условно можно назвать советскими, лучше не перечислять, – это будет оглавление литературной энциклопедии. Недаром жанр одной из своих книг – «Советская литература. Побежденные победители» Рассадин определил так: почти учебник. И все же из критики он ушел не в историю литературы, а собственно в литературу. В прозу. Причем – замечательную. Только проза эта не о вымышленных героях, а о самих писателях. (При этом придуманные ими персонажи у Рассадина порой равноправно сосуществуют со своими создателями.)
Таковы его книги «Русские, или Из дворян в интеллигенты», «Самоубийцы», «Книга прощаний», которые вместе мне представляются цельной трилогией, вместившей три русских века. А к ним еще примыкает книга «Голос из арьергарда», захватывающая (через литературу) уже и век XXI.
А вообще по всем векам российской истории Рассадин легко путешествовал в своих злободневных новогазетных колонках «Стародум». Парадокс? Но как же от сопоставления времен становится понятнее настоящее! Кстати, в «Новую газету» Рассадина догадался пригласить не я, что было бы вполне логично после нашего сотрудничества в «Огоньке», а обладатель уникальной интуиции Юра Щекочихин.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Олег Хлебников - Заметки на биополях [Книга о замечательных людях и выпавшем пространстве] [сборник litres]](/books/1059165/oleg-hlebnikov-zametki-na-biopolyah-kniga-o-zamecha.webp)
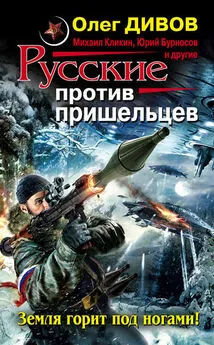
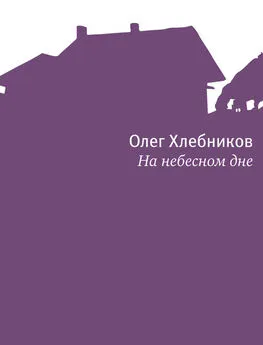
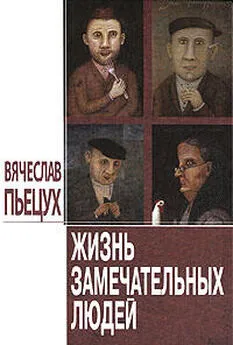
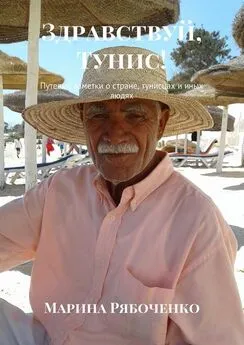
![Олег Кожин - Зверинец [сборник litres]](/books/1061578/oleg-kozhin-zverinec-sbornik-litres.webp)
![Роман Волков - Большая книга ужасов – 83. Две недели до школы [сборник litres]](/books/1147779/roman-volkov-bolshaya-kniga-uzhasov-83-dve-nedeli.webp)