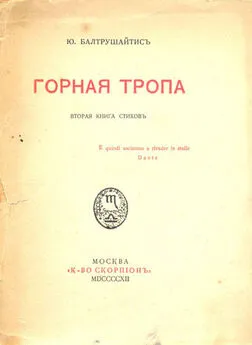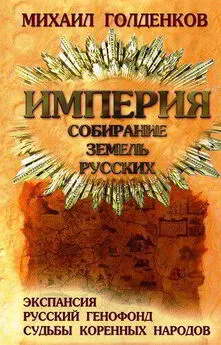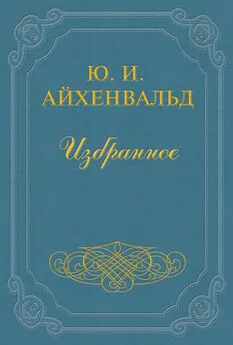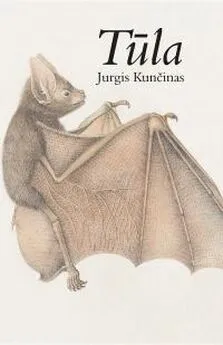Юргис Балтрушайтис - Литва: рассеяние и собирание
- Название:Литва: рассеяние и собирание
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Иностранная литература
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юргис Балтрушайтис - Литва: рассеяние и собирание краткое содержание
Литва: рассеяние и собирание - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
М. К.Мне кажется, Марюс ответил на это в «Канте»: «Когда я не знаю — верю». Не понимаю — верю. Это как в математике, где заданы некоторые аксиомы, и мы избавлены от необходимости их проверять и доказывать. Правда, опыт и вера — явления не фиксированные, не раз навсегда данные. В какие-то периоды кажется, что ты все знаешь и понимаешь, тогда вере почти нет в тебе места. А бывает наоборот. Сам путь познания и самоопределения в мире — немыслим без веры. Понимание добра и зла вне веры — невозможно. Мы вот сейчас заняты Львом Толстым, еще и потому эти вещи так для нас актуальны.
Г. Е.В связи с этим вопрос: насколько необходимо и уместно тут упомянуть о вашей новой работе — спектакле о Толстом?
М. К.Надо упомянуть — чтобы никто не увел. Ну а если без шуток… Мне показалось, что грехом было бы не спровоцировать Марюса на такое дело: замахнуться на Толстого. Это всегда страшно и небезопасно, поскольку Толстой предельно злободневен. Всегда и во всем. И когда существует такой… как бы сказать… преемник и ретранслятор, как Марюс Ивашкявичюс, — хочется уступить соблазну и взглянуть на Толстого сквозь эту призму. Это ведь будет не композиция по Толстому, а оригинальная пьеса Марюса Ивашкявичюса.
Г. Е.Почему-то хочется сейчас вспомнить Юрия Петровича Любимова, с которым так недавно пришлось проститься… Я в 1964 году жил на Таганке, в двух шагах от тогдашнего Театра драмы и комедии, и мой трепет перед сценой возник именно там и тогда. Интересно было следить, как со временем изменялось общее восприятие Таганки — от восторга перед бунтарством к некоторому привыканию, как к некоей уже данности, традиции. Для тебя это важно — низвержение канона, преодоление устоявшегося? Над кем или над чем совершается победа, если она есть?
М. К.Ты употребил верное слово «трепет». Вот у меня трепет возник поначалу не перед театром, а перед русским языком. Я его учил в школе, еще в Шяуляе, и потом… И это не проходит. И уже не пройдет наверняка. Если вернуться к национальному самоощущению, я бы так сказал: литовец силен именно способностью воспринять, вместить и освоить значительно больше, чем предполагает и предлагает литовская история, география, фонетика. Сама литовская история — это история синтеза, срастания нашего опыта — рационального и чувственного — с другими культурами. Литовец (в моем представлении) кровно ощущает радость обретения. Представь, вот хуторянин собирается и едет на рынок: запрягает повозку, празднично одевается, внутренне готовится… К чему? Вот к этому приятию незнакомого, чужого, общего. И в этом понимании — я литовец и Марюс литовец. Мы, мало изменяясь в лице, способны очень меняться внутренне. Тут важна потребность в еще одном пространстве, космосе, хаосе… И мои перемены, мои метаморфозы по порядку шли так — русский язык, потом эмиграция, потом театр.
Г. Е.А как ты попал в Москву?
М. К.Я был безработным артистом. Наступила пора, когда в Литве не было никакой работы, и перед многими, практически перед каждым вторым, встала проблема отъезда. Это 1997-й. Я этакий молодой неудачник. И у меня страсть к русскому языку, к России. Мне чудится, что я здесь нужен. И она мне нужна — ее пространство, там есть где разгуляться. В том числе и театру. Вот Фоменко… Стихийно-игровой русский театр. А у меня появилась такая возможность — приехать, присмотреться, разобраться. Приехал и остался… Есть ли тут какой-либо мятеж, бунт? Не знаю. Важен вектор, момент, результат движения, поиска. Способность постижения — и достижения задуманного. Наверное, главное во мне — ремесленник, профессионал. Художника я в себе не очень вижу. Он в тени. А профессионал, иначе говоря, умелец — он превыше всего. По-моему, Марюс в этом смысле — образец. Он искусник. Итог у него всегда — завершенный и совершенный.
Г. Е.Многие сожалеют, что Ивашкявичюс отвлекся от большой прозы ради «малой», театральной. Им кажется, что перерыв между романами затянулся. Марюс — первопроходец, испытатель. Он ведь уже и игровой, и документальный режиссер, в Москве на Днях литовского кино осенью показали его «Санту»…
М. К.Профессионалу менее всего важен произвол, своеволие. Выше стоит долг, обязанность перед окружающими, делом, временем. Востребованность, социальная необходимость диктует тебе выбор. Это не сумма твоих фантазий, а их экстракт, квинтэссенция. Не «мне нужно», а «от меня нужно». Наверное, поэтому преимущество отдается сцене и фильмам, а не книгам. Пока, во всяком случае. Есть осознание, что твой крест — он именно такой. Если обо мне: я всегда с трудом улавливаю, что мне, собственно, самому требуется, а вот что от меня надо другим — это понятно и непреложно.
Г. Е.Не могу тут не вспомнить один разговор с Марюсом. Речь зашла о «так называемой» творческой свободе, и он вдруг признался, что многое «судьбоносное» с ним случилось, как говорится, из-под палки. Денежные затруднения принудили участвовать в конкурсе, режиссер уговорил написать историческую пьесу и т. д. И так сложилась некая сюжетная линия судьбы, о которой заранее никто и мечтать не мог.
М. К.И со мной так случилось, что прямо с первого курса, с первых этюдов — от меня постоянно чего-то требовали и ждали, а я все время не соответствовал. Но тут ведь так: если ты верно выбрал главную дорогу, тогда чужие требования и просьбы на этом пути — они тебя подталкивают, подтягивают, побуждают работать и развиваться. Главное, чтобы эти призывы, просьбы, тычки не прекращались. Иначе… Ну понятно, что тогда. «Из-под палки» — это правильно.
Г. Е.А драматургию Ивашкявичюса не пришлось прививать силком?
М. К.Да, это интересно, как приняли его драму русские артисты. Мы же не просто бубнили на первых читках, да и потом полгода, некий скомпилированный текст о Канте. Если вспомнить сейчас вновь о голове и сердце, надо сказать: когда человек пишет от сердца (но не без участия головы), нет и не может быть никакой «ментальной непроходимости» между автором и слушателем, читателем, зрителем. А я видел, какое наслаждение испытывали актеры. Хотя «Кант» — это, по видимости, сборник скетчей…
Г. Е.Очень неплохих, надо сказать…
М. К.Да, очень качественных. Надо было видеть и слышать, как воспринимали этот спектакль, скажем, в Тыве. Нам иногда кажется, что где-то там существуют не слишком притязательные люди, не избалованные культурой, которым трудно воспринимать нынешнее искусство. Ерунда. Люди, идущие в театр, — идут в театр и ждут чуда. Если ты не сумел устроить это чудо, глупо пенять на зал, на социальные и климатические условия.
Г. Е.А вот условные земляки Канта, жители современного Калининграда, с которыми я общался, они саму идею такой пьесы приняли с настороженностью…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: